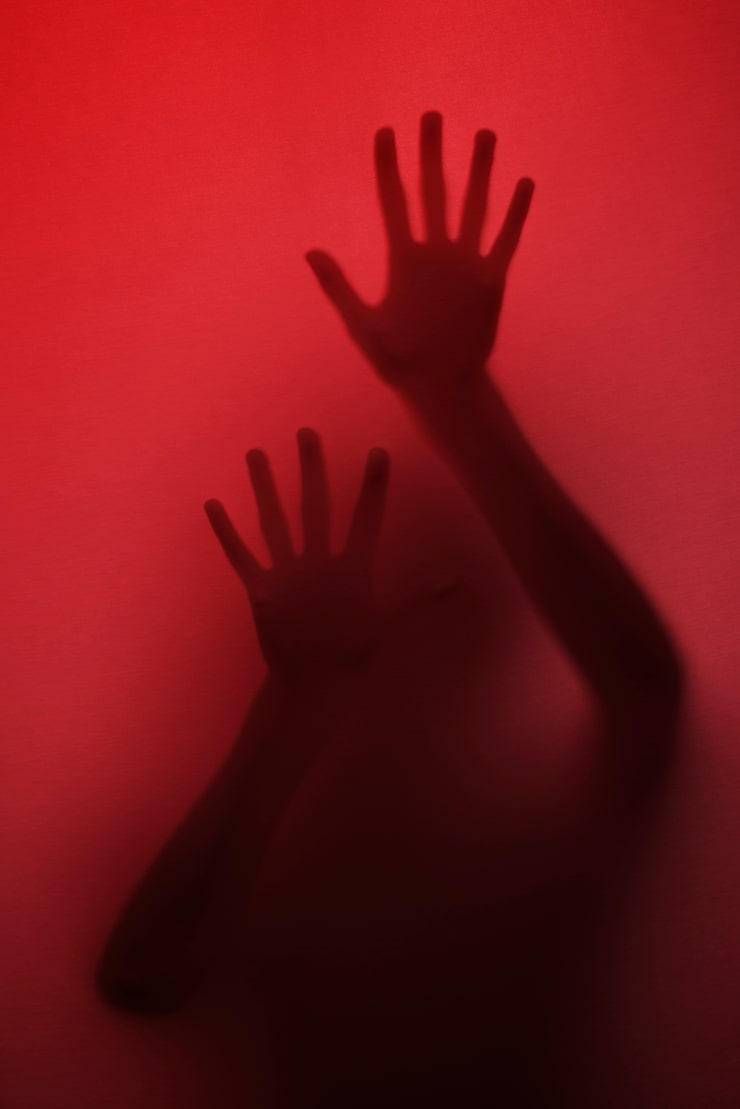Вспоминается громкий скандал, связанный с историком Олегом Соколовым, совершившим убийство своей аспирантки. Примечательно, что некоторые даже пытались возложить вину на саму жертву. Подобная практика, когда жертв сексуального насилия упрекают в том, что они носили короткую юбку, и обвиняют в случившемся, к сожалению, не редкость. Откуда берется распространенное мнение о том, что жертвы насилия несут ответственность за произошедшее? Какова связь этого явления с когнитивными искажениями и Стокгольмским синдромом? Naked Science попытался проанализировать данную проблему.
Когда известный преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт в области военной истории Франции и заметная фигура в общественном движении исторической реконструкции Олег Соколов совершил убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко, и меня потрясли комментарии в социальных сетях. Многие всерьез задавались вопросом, не несет ли сама жертва ответственность за свою гибель, произошедшую с такой жестокостью. По их мнению, она «сама спровоцировала» или «зачем жила со зрелым мужчиной? — очевидно, ради денег, и вот что получила!». Похоже, число таких сомневающихся не уменьшилось даже после публикации подробностей пыток другой жертвы кавалера ордена Почетного легиона ( после убийства Соколов был лишен этого звания. — NS) посредством применения раскаленного утюга, публичных унижений руководителя реконструкторов в отношении лошадей, появившихся сведениях о гибели человека вследствие неосторожности доцента и условном сроке, назначенном последнему, а также сообщениях о таинственном исчезновении одной из его прошлых партнерш».
К этому стоит добавить опубликованные записи из дневника Анастасии Ещенко, мечтавшей о создании семьи. В них она описывала планы по уходу за пожилым «главой семьи» и заявляла о своей готовности заниматься роликами с будущим ребенком без посторонней помощи. Также известны рассказы о быте этой пары: Анастасия жила в небольшой комнате у входа, а Соколов – в просторной спальне. По сведениям близких, у него никогда не было больших доходов, не говоря уже о том, что всю повседневную работу за доцента выполняла Анастасия, создававшая презентации для его лекций, переводы и другие задачи, не соответствующие статусу «гиганта мысли». Олеге Соколове и Анастасии Ещенко мы уже рассказывали здесь.
Если даже громкое убийство с расчленением девушки, не запятнанной пороком, вызывает желание осыпать ее градом камней, то что уж говорить о частых случаях сексуального насилия, которые часто сопровождаются вопросами: «Зачем она надела короткую юбку?». О домашнем насилии, когда существует распространенное мнение «милые бранятся — только тешатся», и вовсе не принято говорить: ни соседи, ни представители власти предпочитают не вмешиваться в подобные ситуации («зачем выносить сор из избы — сами разберутся»). Если жертва действительно совершила что-то, что можно расценить как «недопустимое», то ей не избежать осуждения: ее слова будут превращены в интернет-мемы, и ее заклеймят «бесчестьем». Ярким примером является случай Дианы Шурыгиной, имя которой стало нарицательным и обозначает «женщину, ведущую нечестную жизнь и зарабатывающую на продаже своего тела». По мнению общества, виновником является сама девушка, а не ее насильник.
Она, к ужасу, выпила водку до дна и публично поведала о случившемся, выразив глубокий стыд. Она обрушила поток оскорблений и, похоже, не оказала сопротивления. Мы не оправдываем действия и слова Шурыгиной, но то, что ее обидчик на этом фоне вызвал сочувствие, – это абсурд. Понятно, что молодая, неопытная и дерзкая девушка может вызывать негативные эмоции, но как объяснить практически полное оправдание насильника, который, будем помнить, совершил преступление, предусмотренное уголовным кодексом, в отношении несовершеннолетней? Объяснение очень простое: причиной является когнитивное искажение. Именно о нем мы и поговорим.
Белое пальто
Виктимблейминг – это обвинение жертвы, распространенное в социологии и юриспруденции, при котором жертве преступления, несчастного случая или насилия приписывается полная или частичная ответственность за произошедшее с ней. Это касается даже пострадавших от пожаров, землетрясений и других природных или техногенных катастроф. Все мы сталкивались с «проницательным» мнением, например, от пожилой родственницы: если с человеком приключилось что-то плохое, то он, вероятно, заслужил это (более смягченный вариант – «так судьба решила»). Однако такое мнение отражает не индивидуальную точку зрения, а распространенное убеждение среди многих людей. По сути, виктимблеймингу подвержены все или почти все, но в разной степени. Особенно часто этот феномен наблюдается среди медицинских работников. Некоторые психологи даже используют понятие «токсичность медиков», с которой, вероятно, сталкивался каждый, а жертвы изнасилований – почти постоянно. При осмотре врач может проявлять грубость и бестактность, давая понять девушке, что она сама спровоцировала насилие.
В некоторых культурах виктимблейминг может быть даже закреплен на уровне негласных норм. Женщины, пережившие сексуальное насилие, сталкиваются с резким осуждением, особенно если они ранее не имели сексуального опыта. Критика, как правило, направлена не на преступника, а на жертву. Стоит отметить, что подобные явления были распространены и в нашей стране не так давно (вспомните фильм «Штрафбат», где показана ситуация, когда изнасилованная солдатом девушка кончает жизнь самоубийством — это и понятно, ведь «кто тебя замуж теперь возьмет, порченную»).
Логика тех, кто стремится найти виноватых в чужих бедах, довольно проста: если с человеком случилось несчастье, значит, он сам виноват, и, вероятно, где-то допустил ошибку. Этот феномен часто называют «белое пальто». Происхождение этого термина связано с поговоркой: «Все остальные ошибаются, а я, в белом пальто, выгляжу безупречно». Подобное поведение связано с магическим мышлением, когда человек убежден, что при правильном поведении он не может столкнуться с подобными проблемами, а те, кто это пережил, «заслужили» это: «Почему со мной не происходит подобных ситуаций?», «Как можно было сразу не распознать этот тип?».
Справедливый мир
Для человека, незнакомого с рефлексией, сама мысль о том, что несправедливость может постигнуть других без видимой причины, вызывает дискомфорт. Подсознательно он рассуждает: если неприятности происходят случайно, то и с ним может случиться что-то плохое? Чтобы оградить себя от этой пугающей перспективы, люди прибегают к концепции справедливого мира.
Американский социолог Мелвин Лернер, который первым исследовал феномен веры в справедливый мир, пришел к такому заключению. В ходе одного из экспериментов, проведенных «пионером изучения справедливости», участникам предлагалось высказать свое мнение о людях, запечатленных на фотографиях. Опрашиваемые, которым сообщали, что люди на снимках выиграли крупные суммы в лотерею, характеризовали их более позитивно, чем других участников эксперимента, которым подобная информация не предоставлялась.
В другом эксперименте участникам демонстрировалась видеозапись учебного процесса. На ней ученики (актеры) подвергались воздействию электрического тока за допущенные ошибки. Анализ ответов участников, увидевших ролик, показал, что испытуемые проявляли большую неприязнь к тем ученикам, которые не могли прекратить занятие и покинуть помещение, по сравнению с теми, кто имел такую возможность и воспользовался ею. Лернер отметил по этому поводу: «…одно лишь созерцание невинного человека, страдающего без возможности получить вознаграждение или компенсацию, побуждает людей принижать его ценность, стремясь тем самым упорядочить его личность и дальнейшую жизнь».
Вера в справедливый мир – это когнитивное искажение, которое проявляется в убеждении, что «что посеешь, то пожнешь», и люди получают заслуженное, основываясь на своих качествах. Согласно этой вере, недобросовестные рано или поздно будут наказаны, а добродетельные – вознаграждены. Именно это убеждение служит источником самоуспокоения для некоторых, кто считает, что обидчику обязательно воздастся. Также из этого вытекает мнение, что жертвы насилия несут ответственность за случившееся с ними. А если они, как, например, Диана Шурыгина, не обладают достаточной проницательностью для создания безупречного публичного образа и демонстрируют обычные человеческие черты, то сомнений не остается – вина лежит на жертве, а что касается насильника, то здесь, как говорится, не стоит удивляться».
Кстати, исследование, исследование, проведенное американскими социальными психологами Зиком Рабином и Летицией Энн Пеплау в 1975 году, продемонстрировало, что люди, верящие в справедливость мира, как правило, более религиозны и склонны к авторитаризму. (Понятие авторитетной личности, разработанное Эрихом Фроммом и связывающее это с социальными явлениями, такими как фашизм и геноцид, рассматривалось нами более подробно ранее здесь), они придерживаются консервативных взглядов и склонны к почитанию политических лидеров, поддерживают действующие социальные структуры и проявляют пренебрежение к тем, кто подвергается дискриминации, испытывает бедность или находится в трудной жизненной ситуации.
А судьи кто?
«Виктимблейминг наиболее часто проявляется в отношении жертв «домашнего насилия» и изнасилования, особенно в случаях, когда женщины носят вызывающую или откровенную одежду, что, по мнению некоторых, подразумевает «согласие» на сексуальные действия. Однако утверждение о том, что виктимблейминг затрагивает исключительно женщин, не соответствует действительности, поскольку ему подвергаются и мужчины. Наглядным примером этого является уголовное дело, возбужденное в отношении рядового Шамсутдинова (он застрелил восемь своих сослуживцев). Часть общества возложила вину за произошедшее на самих погибших, а действия Шамсутдинова интерпретировались как оправданное возмездие за действия командования и коллег», — пишет в журнале „Юридическая наука” в статье „Виктимблейминг или роль жертвы в совершении преступления” кандидат юридических наук, заведующий кафедрой трудового и экологического права ДВФУ Андрей Присекин и студент ДВФУ Дмитрий Парин. — Зачастую представления общества строятся на том, что жертва должна была осознавать существующую для нее опасность, а следовательно, должна была принять меры для ее недопущения, таким образом часть ответственности за совершенное насилие фактически перекладывается с лица, которое совершило преступление, на потерпевшего».
К виктимблеймингу причастны не только люди, высказывающие необоснованные суждения, но и следователи, расследующие уголовные дела, а также судьи. В ряде случаев следователи проявляют склонность к обвинению жертвы, что негативно сказывается на дальнейшем расследовании и представляет серьезную угрозу в правоприменительной практике. При этом подобное поведение следователей не подвергается критике, что значительно увеличивает опасность виктимблейминга. Виктимблейминг может оказывать существенное влияние и на ход судебного разбирательства.
„Поведение жертвы, которое можно охарактеризовать как провокационное или вызывающее, как во время судебного процесса, так и в момент совершения преступления, способно оказывать влияние на внутренние убеждения судьи, что, в свою очередь, может отразиться на выносимом приговоре. При этом стоит подчеркнуть, что некоторые аспекты виктимблейминга имеют законодательное закрепление. Некоторые проявления обвинения жертвы можно обнаружить в п. „3” ч. 1 ст. 61 УК РФ и в ст. 107 УК РФ. Противоправное или аморальное поведение потерпевшего, послужившее причиной преступления, в уголовном праве рассматривается как обстоятельство, смягчающее наказание, назначенное виновному.
Все знакомы с историями о том, как правоохранительные органы прекращают расследование дел об изнасилованиях и даже убийствах. Убийство могут квалифицировать как самоубийство, а дело об изнасиловании закрывают из-за недостатка доказательств. Наиболее часто такие случаи происходят в небольших и отдаленных населенных пунктах, где убийца и насильник известен не только следователям, но и родственникам и соседям жертвы. Однако ему удается избежать серьезного наказания, отделавшись условным сроком в два года или вовсе избежав приговора, благодаря обстоятельствам, которые представляются «несчастным случаем» и отсутствием каких-либо доказательств вины. О подобных случаях мы уже сообщали здесь. Зачастую можно встретить просьбы от сочувствующих лиц, а порой и от самих пострадавших, к следствию, чтобы замять расследование, мотивируя это тем, что «не стоит разрушать человеку жизнь».
Тонкая грань
Виктимология – это область научных знаний, которая, среди прочего, исследует поведение и психологию жертв преступлений. Психологи и социологи стремятся выяснить, существует ли у человека или группы людей склонность к тому, чтобы стать объектом насилия, особенно в случаях, когда речь идет о «33 несчастьях». Виктимблейминг негативно влияет не только на взрослых, но и на детей, которые, в первую очередь, становятся жертвами буллинга. Интересно, что нередко травля прекращается необъяснимым образом после перевода ребенка в другую школу или даже в другой класс).
Аналогичная ситуация наблюдается и у женщин, которые регулярно выбирают в качестве партнеров людей, проявляющих абьюзивное поведение. Различение между необоснованными обвинениями в адрес жертвы и признание того, что она, возможно, провоцирует агрессию у лиц, предрасположенных к ней, – сложная задача. Зачастую жертва не несет никакой ответственности за произошедшее.
Толерантность к насилию
Влияют ли особенности характера, принципы воспитания или обстоятельства жизни на то, чтобы человек стал жертвой насилия? Важно понимать: речь не идет о поиске виноватых, а о личной ответственности за свою безопасность. Об этом и о других важных вопросах мы поинтересовались у кризисного психолога Натальи Рачковской:
— Ответственность жертвы за насилие, на мой взгляд, является ошибочной концепцией. Сложно определить четкую границу между единичным случаем насилия и систематическим абьюзом. Что подразумевается под «неоднократно»? Основываясь на моем восьмилетнем опыте работы с жертвами абьюза, характерной чертой этих людей является то, что они, как правило, берут на себя излишнюю ответственность (за исключением тех, кто страдает серьезными расстройствами личности, но их немного). К примеру, женщина после тяжелых отношений с партнером начинает искать причину произошедшего в себе. Она говорит: «Я виновата», «Я его спровоцировала» или «Я сама выбираю таких мужчин», «Может быть, я это заслужила?». Зачастую женщины пытаются что-то изменить в отношениях, чтобы улучшить их. Что это, как не проявление ответственности? И именно с устранения этой чрезмерной ответственности я начинаю свою работу, поскольку она не способствует выходу из абьюзивных отношений и восстановлению, а напротив, препятствует этому. При этом выход из подобных отношений затрудняется, в том числе, и гендерными стереотипами — женщине повсеместно твердят: «Мужчина — голова, женщина — шея», «Женщина ответственна за атмосферу в семье», поэтому она и пытается взять на себя эту ответственность. И даже если речь идет о череде абьюзивных отношений, часто оказывается, что это не одно и то же, поскольку деструктивные партнеры проявляют себя по-разному. Женщина может решить, что больше не позволит по отношению к себе, например, физическое или сексуальное насилие, но сталкивается с другим человеком, который позволяет себе, например, эмоциональное или финансовое давление. И вновь оказывается в ситуации абьюза.
Насилие в отношениях редко начинается немедленно. Абьюзивный партнер обычно не заявляет о своих намерениях на первом свидании, не сообщает о планах изменять, забирать заработок или применять физическое насилие. Чаще всего, ситуация развивается противоположным образом — такие люди изначально предстают в образе идеальных партнеров. Ужесточение контроля и манипуляции обычно происходят постепенно, поэтапно. Хотя в некоторых случаях насилие может начаться сразу, это зависит от опыта жертвы и от того, распознает ли она первые признаки нездоровых отношений или не придаст им значения. Для некоторых это может показаться неожиданным, но многие из этих людей попросту не осведомлены о признаках, которые должны вызывать подозрения.
— Что объединяет женщин, которые остаются в подобных отношениях? Еще одна характерная черта — повышенная устойчивость к насилию, — отмечает Наталья Рачковская. Этот термин, заимствованный из медицины, изначально обозначает привыкание к определенному препарату и снижение его эффективности. Это аналогично толерантности к алкоголю: первоначально человек опьяневает от небольшой дозы, но затем его организм адаптируется, и для достижения измененного состояния сознания требуется все большая порция спиртного. Подобный процесс происходит и в любой стрессовой ситуации: биохимия нашего мозга претерпевает изменения, чтобы обеспечить адаптацию. Человек, не сталкивавшийся с насилием, испытает сильный шок от оскорбления. Клиенты из благополучных семей часто рассказывают о пережитом стрессе, когда на них однажды повысила голос обычно добрая и миролюбивая мать. Однако есть люди, которые живут в таких условиях, и они рассказывают: «Да, мать меня била»— «Чем била?» — «Ну шваброй. Ничего особенного, я сама виновата». В первом случае организм не привык к насилию, поэтому оно вызывает сильный стресс, а во втором — человек может не заметить его и не воспринять ситуацию как угрозу своему психическому или физическому здоровью. Иногда человек оказывается в среде, где одного соседа убили, другого посадили, третий «сломался» — для таких людей насилие является обыденностью. Однако не всегда в абьюзивных отношениях оказывается женщина с изначально повышенной устойчивостью к насилию. Иногда устойчивость развивается постепенно, в изначально благоприятных отношениях. Просто в этой ситуации абьюзер не сразу проявляет себя во всей мере, а постепенно усиливает градус насилия. И через некоторое время женщина с удивлением обнаруживает себя в ужасных отношениях и недоумевает, как она могла допустить такое, ведь раньше никогда не было.
Внешний взгляд на ситуацию нередко отличается от того, как она воспринимается изнутри.
— Я часто привожу пример, чтобы это проиллюстрировать, — говорит Наталья Рачковская. Зритель, смотря фильм ужасов, предвидит опасность, скрывающуюся за дверью или в темной комнате, и мысленно предостерегает героя: «Не ходи туда!». Однако для самого героя это не является очевидным, поскольку он руководствуется убеждением в существовании «справедливого мира».
Человек как вещь
В современном обществе мизогиния проявляется во многих аспектах. Она также влияет на отношение к жертвам насилия, причем нередко обвинения исходят от других женщин. Неприязнь и недоверие к женщинам можно обнаружить не только в Библии или Коране, а и в более ранних религиозных текстах, например, у древних греков. Как возникли такие явления?
— По моему мнению, исторически сложилось так, что женщину объявили слабым полом, — продолжает Наталья Рачковская. — Кто-то пытается обосновать это определенными идеями, однако, я полагаю, что это скорее случайность, поскольку не во всех культурах женщина считается слабой. Если говорить о древних эпохах, я бы не назвала это неприязнью к женщинам — скорее, это было потребительское отношение. Подобно тому, как относились к предметам или домашним животным. Существовали законы, предусматривающие наказание за кражи, и в древности также были законы, защищавшие «собственность» мужчин — женское тело. В одних культурах наказывали того, кто покушался на жену, а в других — саму женщину, которая «не уберегла честь». Поэтому и сегодня в случаях насилия над женщиной ее часто обвиняют. То же самое касается и маленьких детей: зачастую даже пятилетнюю девочку, ставшую жертвой изнасилования, считают развратницей, а мальчика — жертвой.
Синдром из Швеции и слабое звено
Наталья Рачковская отмечает, что Стокгольмский синдром развивается как следствие возрастания терпимости к насилию. Это способ, посредством которого психика адаптируется к тяжелой стрессовой ситуации. В условиях психологического давления человек ощущает свою беспомощность, и чтобы справиться с ней, некоторые начинают создавать иллюзию контроля: если я сам хочу оставаться в этой ситуации, значит, я ею управляю. Именно на этом базируется, например, привязанность к человеку, который причиняет физическую или эмоциональную боль. Однако это не любовь, а Стокгольмский синдром. В работе с пациентками мне встречались случаи, когда женщины, подвергавшиеся побоям от партнера, не рассматривали это как зависимость, а описывали как сильное чувство».
— Помимо веры в справедливый мир, мизогинии и Стокгольмского синдрома, какие еще, по вашему мнению, факторы способствуют виктимблеймингу?
— Я полагаю, здесь также присутствует биологический страх или чувство отвращения, вызванное опасностями. Например, людям часто неприятно наблюдать за гниющими ранами. Это естественный механизм, обусловленный биохимическими процессами, который призван защитить организм от инфекции или от контакта с ослабленными, чтобы избежать «заражения» слабостью (ведь известно, что по друзьям судят о человеке). И это, к сожалению, может проявляться даже у добрых, сочувствующих людей, в том числе у психологов, которые не работают с жертвами насилия. А специалисты в этой области знакомы с этими механизмами и способны нейтрализовать их, подобно хирургам, ежедневно сталкивающимся с кровью.
Защитные реакции у людей, пострадавших от абьюза и насилия, являются естественными и не свидетельствуют о бесчувственности. Просто для них эта тема болезненна и сложна для осмысления. Однако, иногда важно сделать паузу и переосмыслить: обоснованно ли я осуждаю другого?