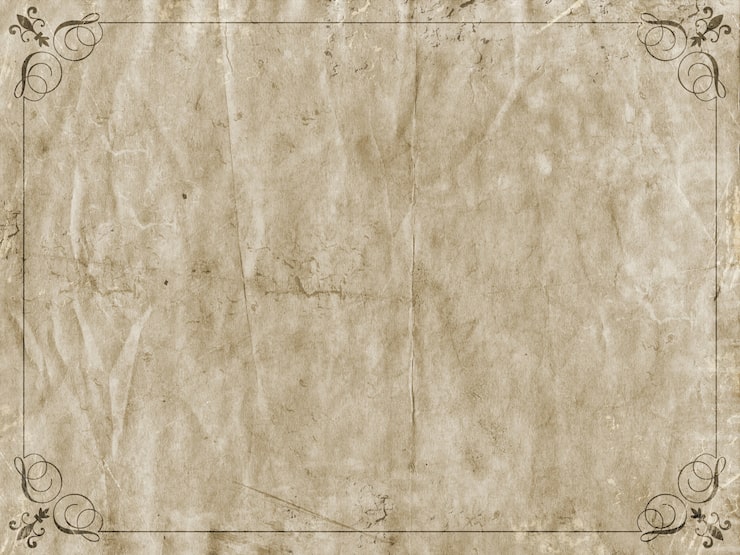«Фразу «Верую, ибо абсурдно» приписывают Тертуллиану, богослову раннего христианства. Эти слова можно считать девизом эпохи Средневековья. Поскольку даже незначительный объем современных знаний был недоступен людям того времени, а над их интеллектом доминировали эмоции, они полагались исключительно на Бога. Попробуем понять психологию человека Средневековья и прояснить особенности его мышления.
Младенец и общество
Западная социология предполагает, что все народы Земли проходят схожие этапы общественного развития, хотя и с разной скоростью. Например, некоторые племена, живущие в Амазонии, остаются на стадии каменного века, в то время как передовые государства осваивают космические технологии. Уровень технологического развития служит основой для определения этих этапов. Так, американский социолог Дэниел Белл выделяет три стадии социального развития: традиционную, индустриальную и постиндустриальную. В настоящее время традиционный тип общества преобладает в большинстве стран Африки, во многих государствах Южной Америки и Южной Азии. Здесь основу экономики составляют земледелие, скотоводство и использование природных ресурсов. Индустриальный тип общества предполагает уже значительную степень освоения природы – к нему можно отнести ряд европейских стран и бывшие советские республики. А постиндустриальный тип общества начинает формироваться лишь в последние десятилетия в таких государствах, как США, Япония и некоторые страны Западной Европы. В данном случае акцент делается не на природных ресурсах, а на обработке и хранении информации, научных достижениях и технологическом прогрессе.
Социальный подход тесно связан и с психологическим рассмотрением общественного развития. Многие авторы, представляющие психодинамические направления, придерживаются теории, согласно которой любой социум проходит определенные стадии развития, аналогичные этапам человеческой жизни: младенчество, детство, подростковый возраст, юность, зрелость и старость. В соответствии с этой теорией, ни одно общество на Земле еще не достигло стадии зрелости, не говоря уже о старости. Однако младенчество и детство характерны (или были характерны) для всех. Одним из таких «детских» периодов социума можно считать Средневековье. Главным признаком этого периода является так называемое магическое мышление, свойственное как древнему человеку (и современным племенам, живущим в диких условиях), так и средневековому человеку. Да что там древнему – магическим мышлением зачастую руководствуются и многие люди в наши дни.
Этот тип мышления предполагает, что человек способен изменять события, не поддающиеся его контролю, посредством определенных действий, слов и мыслей. Зигмунд Фрейд в своей работе «Тотем и табу» отмечал: «У примитивного человека существует большое доверие к силе его желаний. Все, что он делает посредством магии, должно произойти исключительно потому, что он этого хочет». Подобное убеждение, согласно многочисленным исследованиям, свойственно маленьким детям (что объясняет сложность убеждения их в рациональности действия, противоречащего их желаниям), а также встречается и у многих взрослых, считающихся вполне цивилизованными.
Даже в самых незначительных проявлениях можно заметить влияние магического мышления, например, в таких ритуалах, как сплевывание через левое плечо или традиция «присесть на дорожку». В более радикальной форме это может проявляться как религиозный фанатизм и неприятие альтернативных точек зрения. Именно поэтому магическое мышление встречается и сегодня среди людей, которые выглядят вполне зрелыми. В эпоху Средневековья, когда научные знания были ограничены, такая форма мышления, возможно, была единственным доступным способом понимания мира. Неудивительно, что для людей того времени определяющей составляющей жизни была вера, а не разум.
Запрет на знания и аскеза
Вероятно, схожая ситуация существовала и в отдаленные эпохи. И, судя по всему, действительно имела место. К моменту упадка Античности, как и впоследствии, повсеместно существовала вера в богов, однако знакомство Рима с моральными принципами восточных эллинистических государств привело к тому, что нравы стали более либеральными, чем это считалось допустимым. Безответственность императоров Нерона, который жил с матерью, и Калигулы, совершившего насилие над родной сестрой, провоцировала распустошение и среди населения. К моменту завершения эпохи Римской империи страна, как известно, находилась в состоянии кризиса и была охвачена проституцией. По всей видимости, это послужило причиной того, что произошел обратный процесс – переход к крайнему аскетизму (многие исследователи считают, что религиозность Средневековья достигла своего пика за всю историю человечества), жестокой вере в Бога, неприязни к красоте и человеческой форме. Все эти черты являются определяющими для средневековой эпохи.
В этот период человечество страдало от страшных пандемий чумы, холеры и других опасных болезней. Такие бедствия беспокоили людей со времен одомашнивания животных – источников многих заразных заболеваний – и формирования первых крупных поселений, где люди жили тесно и легко заражали друг друга. В XI веке наблюдался рост городов в Западной Европе, а также начались крестовые походы в страны Восточного Средиземноморья. Именно из этого региона «рыцари веры» привезли в свои земли проказу.
Медицина находилась на ранней стадии развития, а предрассудки были широко распространены. В результате, средневековый человек сталкивался с обыденными смертью, страданиями и болезнями. В таких обстоятельствах он мог возлагать надежды лишь на Бога. Однако помощь от него была незначительной, поэтому утешением служила идея о «неисповедимых путях» и о вере, которую не только не следует, но и грешно пытаться постичь ограниченным человеческим разумом. Это объясняет запрет на знания, против которых активно выступала Церковь.
При чем тут высокая температура
Вера в Бога была свойственна ранним формам социума. И дело не только в психологических факторах, но и в объективных причинах: она позволяла находить объяснения явлениям, которые казались необъяснимыми. В связи с этим стоит упомянуть интересный эксперимент, проведенный историческим реконструктором Павлом Сапожниковым в 2013–2014 годах. Павел, по сведениям автора, не имеющего аналогов в исторической науке, провел восемь месяцев в рамках уникального проекта «Один в прошлом» на территории реконструированного хутора, воссоздавая условия жизни наших предков в X веке. Поскольку быт полностью имитировал средневековый уклад, у Павла отсутствовали современные нагревательные приборы, привычная нам одежда и лекарства. При возникновении болезни и повышении температуры он погружался в галлюцинаторный бред из-за невозможности сбить ее.
«Я осознавал, что происходящее было нетипичным, и понимал, что, вероятно, это не соответствовало действительности. Я понимал, что нахожусь в состоянии стресса, что могло влиять на эти галлюцинации. Я анализировал все это, осознавая происходящее, но при этом испытывал страх, хотя и являюсь человеком XXI века. Следовательно, человек в Средневековье, столкнувшись с галлюцинацией, не смог бы понять, что это галлюцинация, поскольку у него не было представления о таком явлении. Естественно, он бы приписывал этому духовное значение и объяснял так, как мог: считал бы, что к нему явился Бог, дух предков, божественное животное, или что кто-то вселился в коровью шкуру. Это и есть те моменты, которые легли в основу язычества. Я понимаю, как оно возникло, – рассказывает Сапожников в фильме «Один в прошлом». Очевидно, что и в Средние века люди могли видеть видения подобного характера, принимая их за проявления божества.
Кругом знаки
Выдающийся исследователь Средневековья, французский историк Жак ле Гофф отмечал, что восприятие мира и самовосприятие в те времена существенно различались. Человек полагал, что рядом с ним постоянно находятся не только другие люди, но и ангел-хранитель и бес-искуситель. Помимо этого, существовали демоны и божества, которые окружали человека и проявлялись посредством многочисленных символов, знаков и явлений. Люди жили в обстановке, пронизанной чудом, которое воспринималось как привычное явление и выражалось через видения, «чудесные» исцеления или, наоборот, действия, приписываемые сатане.
Для средневекового человека любое явление воспринималось как отсылка к Священному Писанию. Необычная рыба, попавшаяся на глаза, казалась знаком Христа, появление голубя в окне трактовалось как символ Святого Духа, а черный ворон предвещал беду, поскольку ассоциировался с грехом. Понимание этих знамений давало ощущение контроля над судьбой, что было особенно важно для средневекового человека. Он полагал, что все видимые вещи являются символами невидимых сил, будь то небесные или темные.
Эмоции через край
Люсьен Февр, Марк Блок, Робер Мандру, Жорж Дюби и другие историки также обращались к изучению психологии людей, живших в эпоху Средневековья. Многие из этих исследователей придерживаются точки зрения, согласно которой средневековый человек отличался высокой эмоциональностью и глубокой религиозностью. Рациональное мышление не играло для него значительной роли: эмоции определяли все аспекты жизни, вне зависимости от социального положения. По всей видимости, это обусловлено низким уровнем психологического и технологического прогресса общества, преобладанием магического мышления и тяжелым фатализмом, характерным для непростой средневековой жизни.
Люди того времени, подобно всем ревностным приверженцам, вероятно, проявляли излишнюю эмоциональность. В зависимости от обстоятельств они могли быть глубоко вдохновлены и испытывать восторг, а могли демонстрировать крайнюю жестокость и садизм – по отношению как к другим, так и к себе. Яркое тому подтверждение – крестовые походы, когда гибли люди (включая детей!) во имя «освобождения гроба Господня», агрессивное распространение веры в других странах, жестокие пытки и процессы над ведьмами. А еще широко распространенный обычай публичных казней. Наблюдение за кровью, смертью и убийствами – то, что видели взрослые и дети, и одновременно то, в чем они психологически нуждались.
«В эпоху, когда миру было всего пять веков, события жизни принимали более строгие формы, чем сегодня. Страдания и радость, несчастье и успех ощущались гораздо сильнее; человеческие эмоции сохраняли ту полноту и непосредственность, с которой ребенок и по сей день воспринимает горе и радость», – отмечает в своем труде «Осень Средневековья» известный голландский историк Йохан Хёйзинга.
Смех сквозь слезы
Повышенная восприимчивость побуждала человека к поиску острых ощущений, хотя сама жизнь и так щедро их предоставляла. Возможно, поэтому люди стремились наполнить свой мир яркими красками. Вероятно, именно поэтому средневековая живопись изобилует не реалистичными образами, а персонажами из сказок и, безусловно, эмоциями, главным из которых был страх перед божественным наказанием за совершенные проступки. Картины того времени отражают бушующие в человеке страсти и исполнены столь сильным ужасом, что кажутся современникам гротескными. В то же время живопись выполняла роль не просто декоративных изображений – она служила своеобразной «библией для неграмотных», основной целью которой было внушение страха. Искусство в те времена рассматривалось исключительно как средство передачи «слова Божия» к людям, и не более.
По мнению исследователя средневековой культуры и философа Михаила Бахтина, у людей Средневековья существовал определенный механизм защиты от постоянного чувства страха – смех. Бахтин полагал, что именно смех помогал людям того времени преодолевать страх не только перед божественным наказанием, но и перед природными явлениями. Французский сатирик Франсуа Рабле, которого Бахтин считает одним из ключевых деятелей смеховой культуры Средневековья, также является, по его словам, одним из создателей современной европейской культуры.
Страх, однако, оставался значительным. Массовый ужас заставлял средневекового человека не воспринимать себя как самостоятельную личность, а лишь как элемент общества, ради которого он существовал. Превосходство коллективного над индивидуальным определяло все аспекты жизни – от религиозных обычаев до объединений различных типов: рыцарских организаций, профессиональных союзов и ремесленных объединений.
Личность человека теперь определялась не принадлежностью к роду, как это было в древности, а принадлежностью к определенному сословию. Место каждого жестко регламентировано тем же «божественным провидением»: если человек рожден крестьянином и бедным, значит, это его судьба, и попытки что-либо изменить считаются греховными и бессмысленными. Стремление к единообразию и безграничное смирение рассматривались как воплощение христианской добродетели. Развитие индивидуализма порождает «эгоистическое» желание мыслить самостоятельно, что делает такого человека крайне опасным для любой тоталитарной системы. Существование понималось не как проявление индивидуальных особенностей, а как набор социальных ролей, которые человек вынужден исполнять в силу своего общественного положения.