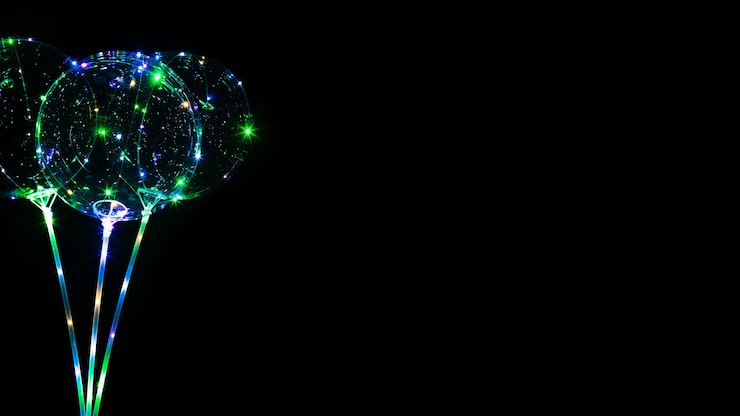Мы обсудили причины, по которым квантовый компьютер пока не функционирует, что представляет собой фонон, какие звуки издает квантовая система и как землетрясение в Японии способствовало объединению российских ученых. В беседе участвовал профессор Сколтеха и руководитель лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ Олег Владимирович Астафьев.
— Какие области физики, на ваш взгляд, сегодня оказывают столь же глубокое влияние на наше понимание мира, как в XX веке это сделала ядерная физика?
— Это интересный вопрос! В настоящее время я не наблюдаю открытий, кардинально меняющих наше понимание мира. В начале XX века, к примеру, возникла квантовая механика, которая коренным образом изменила основы физики. По моему мнению, подобного сейчас не происходит. Я бы сказал, что нынешняя эпоха – это век технологий. То есть, все ранее сделанные открытия теперь используются и совершенствуются. Например, в девяностых годах наблюдался всплеск интереса к высокотемпературной сверхпроводимости, а в настоящее время на их основе создаются провода и различные устройства. Аналогичная ситуация наблюдается и в области квантовых технологий: примерно 20–30 лет назад научились управлять отдельными квантами, а теперь на их базе уже разрабатываются приборы – квантовые компьютеры, сенсоры и метрологические устройства. Возможно, что-то принципиально новое происходит в космологии, где исследуются темная материя и темная энергия.
— Прошлый год ознаменовался созданием в России первого 12-кубитного сверхпроводникового квантового процессора. Какие значимые события произошли в течение этого периода?
— Нами был разработан 12-кубитный процессор, и продемонстрирована его функциональность. Ключевым моментом стало подтверждение работоспособности алгоритмов машинного обучения. В частности, наш процессор был обучен для распознавания изображений рукописных цифр от нуля до девяти, используя стандартную базу данных.
— Какова причина выбора данной задачи?
— Это одна из задач машинного обучения, которую легко понять. Мы разработали алгоритм и определили способ его программирования для распознавания цифр. Кроме того, нас мотивировало создание полезного и прикладного решения, а не абстрактной разработки.
— Когда упоминается «квантовый компьютер», большинство людей не имеют четкого представления о том, что это сложные микросхемы, находящиеся внутри криостата при температурах, близких к абсолютному нулю. Не могли бы вы рассказать о процессе создания квантовых систем и необходимых этапах?
— Прежде всего скажу, что в В МФТИ имеется всё необходимое для реализации полного цикла работ со сверхпроводниковыми квантовыми системами, включая квантовые биты – кубиты. Мы способны создавать такие системы, помещать их в криостат, проводить измерения, демонстрировать их функционирование и исследовать различные физические эффекты. В процессе работы начинается с разработки квантово-механической модели. Описание чистой квантовой системы осуществляется посредством гамильтониана. Затем, разработанный гамильтониан необходимо транслировать на физическую реализацию, то есть создать электрическую схему, соответствующую этому гамильтониану. Подготавливаются чертежи для нанотехнологических процессов. Компоненты цепи должны соответствовать и выполнять функции квантовых систем. И уже после завершения разработки чертежей различных слоев, происходит изготовление чипов в «чистой зоне» методами нанотехнологий.
— Сколько это занимает времени?
— Для квалифицированных специалистов разработка чертежей и отладка требуют нескольких месяцев напряженной работы. Один цикл изготовления обычно занимает около десяти дней, при условии отсутствия проблем, что происходит не всегда. Затем система помещается в холодильную камеру для охлаждения и тестирования работоспособности схемы. Однако, как правило, при первой попытке схема не функционирует должным образом или вовсе не работает. Часто отдельные компоненты приходится корректировать повторно, поскольку технология весьма сложна.
— Основная трудность, возникающая при увеличении количества кубитов, заключается в чем?
— При большом количестве элементов квантовая система становится сложной, а квантовые состояния — крайне чувствительными. Они подвержены разрушению даже незначительными помехами и шумами, некоторые из которых невозможно устранить. Поэтому система нуждается в максимально стабильной среде. Увеличение числа элементов приводит к росту количества источников шума, что требует принятия мер: пересмотра схемы или разработки новых решений для обеспечения работоспособности. Чем больше кубитов, тем сложнее — это первое. Во-вторых, управление большим количеством кубитов представляет собой непростую задачу, требующую использования сложной электроники и программного обеспечения. При управлении одним кубитом необходимо исключить влияние на остальные. Все эти факторы нужно принимать во внимание.
— Является ли увеличение числа кубитов в квантовом компьютере сложной задачей?
— Необходимо осознать, что количество кубитов, вопреки распространенному мнению, не является определяющим фактором. Гораздо важнее, корректно ли функционирует система. Дополнительная интеграция сразу же снижает надежность всей системы. Все элементы не интегрируются одновременно. В крупных процессорах ситуация аналогична: внутри системы, состоящей из множества кубитов, присутствуют неработающие элементы. Увеличение интеграции, соответственно, увеличивает вероятность сбоя системы из-за отдельных неисправных компонентов.
— Значит, презентация Google, посвященная объединенным 72 кубитам, не имеет существенного значения?
— Ситуация представляется сложной. Даже при создании большого числа кубитов, компьютер не будет функционировать как единый механизм, и проведение расчетов на нем будет затруднено. Поэтому интеграция – это лишь один из аспектов, который необходимо учитывать. Не менее важным является параметр, называемый «квантовая глубина». Он отражает не только количество кубитов, но и продолжительность их стабильной работы, а также количество операций, которые они способны выполнить до разрушения квантовых состояний.
— Могу ли я назвать несколько известных мировых лидеров в этой области, например, научные центры? Ведь на слуху в основном только Google.
— Они намеренно разрабатывают процессоры, наращивают число кубитов и активно продвигают это направление. Прямая конкуренция с ними ведется со стороны IBM. Однако, если говорить о лидерах, я склоняюсь к университетам – это область, которая мне наиболее интересна. К ним относятся Делфтский технический университет (Нидерланды), Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Технический университет Чалмерса в Гётеборге (Швеция), который начал работу в этой сфере с самого начала, а также Йельский университет в Америке и китайские университеты: Шанхайский университет и Научно-технический университет Китая (Хэфэй).
— Несколько лет назад квантовые компьютеры вызывали огромный интерес. Сегодня же ажиотаж вокруг этой технологии заметно снизился, уступив место обсуждению нейросетей и генеративного искусственного интеллекта…
— Искусственный интеллект сегодня перетянул одеяло на себя, потому что эта штука действительно работает.
— Он способен даже сформулировать вопросы для интервью с профессором МФТИ, специализирующимся на квантовых компьютерах. Однако, на данном этапе они могут показаться не совсем подходящими.
— Он претерпевает стремительные изменения. Еще десять лет назад можно было вызвать смех, переведя фразу на английский язык, а затем обратно на русский с помощью автоматических переводчиков. Однако произошло резкое улучшение, и теперь они переводят лучше, чем мы. Я даже использую искусственный интеллект, чтобы он исправил мои фразы, и он часто формулирует мысли более удачно. Поэтому, безусловно, ИИ занял значительную часть информационного пространства. Быстрых результатов от квантовых компьютеров не последовало, хотя и не все специалисты этого ожидали. В настоящее время в мире существует множество стартапов, работающих в сфере квантовых вычислений. Таким образом, общий объем инвестиций в эту область увеличивается. Я надеюсь, что в России в скором времени будет активизировано привлечение средств от частных инвесторов.
—Так они же еще не работают?
— Да, именно это является главным препятствием для инвестиций. Однако инвестировать необходимо, поскольку в противном случае можно будет значительно отстать от мировых тенденций.
— Существует ли какая-либо информация о сроках создания работоспособного квантового компьютера?
— Первоначальный план реализации не будет воплощен в ближайшее время. Однако, возможно, появится неожиданный успех. К примеру, технология может найти применение в машинном обучении. В настоящее время квантовое машинное обучение не демонстрирует и не способно демонстрировать преимуществ по сравнению с классическим. Мы не конкурируем в плане скорости отдельных операций или количества логических элементов, но у нас есть потенциальное преимущество иного рода. Мы располагаем так называемым большим гильбертовым пространством, и некоторые алгоритмы могут оказаться эффективными именно на квантовых процессорах. Это пока неизвестно, но есть основания для надежды на значительный прогресс.
— Тогда давайте обсудим основные моменты. Мне импонирует все, что вы говорите об акустике, так как это представляется чем-то новым.
— Действительно, квантовые компьютеры сейчас широко обсуждаются, однако само наше направление, особенно сверхпроводниковые квантовые технологии, не ограничивается только ими. Нас интересует так называемая квантовая оптика на базе искусственных квантовых систем, в частности, сверхпроводниковых. Наши квантовые системы характеризуются наличием дискретных энергетических уровней и демонстрируют поведение, аналогичное естественным атомам. Главное отличие от природных атомов заключается в том, что наши системы имеют значительные размеры и функционируют в СВЧ-диапазоне, где частоты переходов составляют гигагерцы. В оптике же используются видимый свет и частоты порядка тысяч терагерц. Благодаря тому, что у нас есть такой искусственный «атом», который можно спроектировать, изготовить и точно контролировать, как обычный атом, можно применять методы квантовой оптики для воспроизведения эффектов на искусственных квантовых системах. Если бы все было не так интересно, но наши системы обладают одним выдающимся свойством — возможностью легкой и физически сильной связи с другими элементами.
— Почему это важно?
— Это подразумевает следующее: взаимодействие нашей искусственной квантовой системы с другими элементами (определяемое частотами) значительно превышает скорость её распада (диссипации). В оптике теоретически достичь этого тоже возможно, и на практике предпринимаются попытки, хотя это и представляется сложной задачей. В качестве примера: можно связать всего один атом с резонатором. Как я уже упоминал, можно воспроизвести классические эксперименты, описанные в учебниках по квантовой оптике, но на качественно новом уровне, благодаря сильной связи с одиночной квантовой системой. У меня имеется серия публикаций, посвященных реализации базовых эффектов квантовой оптики на одиночных квантовых системах. Так, например, можно продемонстрировать лазерный эффект, электромагнитно-индуцированную прозрачность и предельно простой квантовый усилитель – все это с использованием одной квантовой системы, одного искусственного атома. В настоящее время мы занимаемся разработкой так называемого квантового волнового смешения. Несмотря на то, что квантовая оптика уже давно существует, этот эффект до сих пор не наблюдался.
— То есть вы экспериментально подтверждаете теорию?
— В настоящее время это является распространенной практикой, и у нас имеется ряд выполненных работ. В оптике на нелинейных объектах наблюдается эффект четырехволнового смешения. При замене нелинейного объекта квантовым объектом проявляется значительное количество новой, интересной физики. Наша группа в настоящее время, по сути, является единственной в мире, занимающейся подобными исследованиями. Мы сотрудничаем с Всероссийским НИИ автоматики имени Н. Л. Духова, где теоретики оказывают нам активную помощь, и совместно мы развиваем это направление.
Вы справедливо отметили, что речь идет о квантовой акустике. Наш искусственный атом можно связать не с электромагнитными полями, а с другими степенями свободы – акустическими. Например, вместо кремниевой подложки можно использовать пьезокристалл, поместить на него наш искусственный атом и связать его с фононами (а не с фотонами) – то есть со звуком. Таким образом, можно будет демонстрировать квантовую оптику, но уже в акустической среде.
— Он будет звучать?
— Да! Однако, мы не можем его услышать, поскольку частота слишком высока и находится за пределами диапазона нашего слуха — это ультразвук. Но, несмотря на это, это звук, который можно измерить.
— Как давно ведутся работы в этой области? Можно ли считать это сегодняшним рубежом фундаментальных исследований?
— Идея возникла достаточно давно, первые попытки реализации относятся примерно к десятилетней давности. Наша команда внесла существенный вклад в развитие этого направления. Для наглядности поясню, что одна из базовых систем в квантовой оптике – это атом, взаимодействующий с резонатором. В качестве резонатора мы обычно используем отрезок копланарной линии передачи. Связывание искусственного атома сверхпроводниковой квантовой системы с резонатором стало важной и значимой работой, выполненной около 20 лет назад, и тогда это был большой прогресс. Мы создали аналогичную конструкцию: соединили наш искусственный атом с акустическим резонатором. При этом мы первыми реализовали подобную систему. Несколько групп претендовали на это первенство, но в итоге победили мы. Главная трудность заключалась в технологической реализации.
— С какой целью велась борьба? Что сделало эту тему настолько значимой?
— Это был значительный шаг, поскольку речь идет о базовой системе, на которой можно воплощать различные физические эффекты и, возможно, создавать новые устройства. Это фундаментальная квантово-механическая система. Недавно мы провели еще одно интересное исследование, которое пока не опубликовано: используя искусственный атом, соединенный с акустическим резонатором, можно создать акустический лазер. Лазер – это сокращение от английской фразы «light amplification by stimulated emission of radiation». В данном случае вместо «light» следует использовать «sound», и тогда это будет не лазер, а сазер, по-русски – не лазер, а сазер. Он будет издавать звук, а не свет. И лазерное излучение заменится излучением акустических волн. Это само по себе представляет интерес. Система кажется очень похожей, но если задуматься, что здесь не свет, а звук, то это, в буквальном смысле, музыка.
Использование искусственного атома, соединенного с акустическим резонатором, позволяет создать акустический лазер, который правильнее называть saser!
— Это весьма увлекательно! Скажите, как вы определяете идею для реализации? В отличие от прикладных исследований, в фундаментальной сфере выбор, по моему мнению, редко бывает однозначным.
— Выбирайте то, что вызывает ваш интерес и может оказаться полезным. Когда я работал в Японии, у меня было множество идей, которые приходилось воплощать в жизнь самостоятельно. Я всегда мечтал о том, чтобы мои идеи реализовывались в лаборатории. Фактически, я покинул свою должность в Японии, поскольку для иностранцев существует определенный предел возможностей для карьерного роста. Можно достичь определенного уровня, но создать собственную лабораторию там крайне сложно.
— А в Англии?
— В японской исследовательской лаборатории NEC я занимал должность, аналогичную позиции ведущего или главного научного сотрудника — Главный научный сотрудник. Мне была предложена профессорская должность в Англии, и я надеялся, что смогу воплотить свои замыслы в жизнь. Это действительно произошло, хотя и не в полной мере. Несмотря на то, что в команде собрались талантливые и опытные ученые, и мы выполняли качественные исследования, в частности, опубликовали в Nature работу, посвященную фундаментальному эффекту, имеющему значение для метрологии, создание действительно сильной лаборатории с перспективными молодыми специалистами оказалось возможным только в России.
— Кто сейчас с вами работает? Что это за ребята?
— Команда включает в себя студентов и сотрудников Сколтеха и МФТИ. Наша совместная программа с участием Физтеха и Сколтеха управляется профессором Валерия Рязанова. В рамках этой программы студенты получают представление об интересующей нас области науки. Им предоставляются базовые знания, и они начинают работать в лаборатории, зачастую еще на стадии бакалавриата, а иногда и начиная со второго курса. К моменту получения диплома они обладают значительными практическими навыками.
— Какие знания и навыки необходимы молодому специалисту для работы в вашей лаборатории, занимающейся квантовыми технологиями?
— Для выполнения этих задач требуются не только высококвалифицированные инженеры и технологи, но и специалисты, обладающие профессиональными знаниями в области низкотемпературной и высокочастотной техники, а также навыками программирования. Ключевым, безусловно, является глубокое понимание квантовой механики. Физтех – одно из немногих мест в мире, где можно найти таких специалистов, поскольку сюда отбираются лучшие.
— А сколько в выпуске таких специалистов?
— Физтех обеспечивает специалистов не только для нашей лаборатории. Они также уходят в МИСиС, РКЦ и другие организации. Однако, ежегодно к нам поступает несколько человек.
— Этого достаточно?
— На данный момент наш ограничивающий фактор — не персонал, а наличие оборудования. У нас есть экспериментальная лаборатория, но криогенная установка доступна всего одна. Для более эффективной работы нам необходимо три или больше таких установок.
— Их у нас делают?
— У нас это отсутствует. Ведутся разработки, но до реализации еще далеко. Эти компании находятся под санкциями, однако уже представлены на рынке Китая. Китай, в сфере квантовых технологий, также подвержен санкциям, не менее строгим, чем наши. В то же время, благодаря значительному финансированию и численности населения, они осуществляют импортозамещение гораздо быстрее, чем мы. В настоящее время они уже самостоятельно изготавливают рефрижераторы, поставки которых Европа прекратила как для нас, так и для них несколько лет назад.
— Я осознаю, что ваш профессиональный опыт в этой сфере значительно отличается от опыта современных студентов. Расскажите, пожалуйста, с чего начинался ваш путь? Кем вы мечтали стать?
— С детства я стремился к научной деятельности, и мой карьерный путь во многом соответствовал тому, что выбирают сейчас. Сегодня также можно поступить в базовое академическое учреждение, получить диплом и затем найти там работу, однако начальная заработная плата, разумеется, будет невысокой. Когда-то я прошел почти такой же путь и оказался в Институте общей физики Академии наук. В настоящее время это Институт общей физики А. М. Прохорова РАН.
— А как вы выбрали само направление?
— Я не искал что-то конкретное, меня направили туда, где мне было комфортно. В итоге, интересным образом сложилось так, что мы вернулись к квантовой оптике, но уже в СВЧ-диапазоне и с использованием искусственных атомов. Этот предыдущий опыт оказался полезным.
— Была ли эта тема популярна во время вашего обучения? Что воспринималось как значимое?
—В то время физика высоких энергий пользовалась особым уважением. Я посвятил три-четыре года работе в ФИАНе и в Протвино, а затем вернулся в ИОФАН. ИОФАН и ФИАН в те годы фактически были единым институтом.
— И почему вернулись?
— Прежде всего, смена места жительства была связана с женитьбой. Кроме того, физика высоких энергий – это, как и любая «индустриальная» физика (работа больших коллективов), предполагает командную работу. Однако мне всегда нравилось самостоятельно создавать что-либо, чувствовать полную ответственность за результат. Поэтому я выбрал область, где в то время было возможно самостоятельно планировать и проводить эксперименты, формулировать задачи и находить их решения.
— Не рассматривали ли вы возможность заняться чем-то, отличным от физики?
— Возможно, разве что в области программирования, но все же мне кажется, что нет. Советская система была организована таким образом, что победа на школьных олимпиадах, а я в Норильске, где родился, побеждал и по физике, и по математике, предопределяла дальнейший путь, направляя его в область физики. Единственный выбор, который мне был доступен, касался выбора между Я учился в Новосибирске (на физическом факультете Новосибирского университета) и в Москве (в МФТИ). Однако, из Норильска в Новосибирск не осуществлялись прямые авиарейсы, поэтому приходилось лететь с пересадкой в Красноярске. В Москву же осуществлялись прямые авиарейсы. Именно поэтому я оказался в МФТИ).
— Значит, благодаря тщательной подготовке, вам не возникло сложностей при поступлении в этот престижный институт?
— Поступление представляло собой сложную процедуру, и успех не был гарантирован. Кроме того, я поступал в год проведения Олимпиады-80. В Москве в то время было три университета, где экзамены начались раньше, чем в остальных: МГУ, МИФИ и Физтех. Экзамены в МГУ и МИФИ были перенесены из-за Олимпиады, а в Физтехе их провели по расписанию, поскольку этот вуз находился в Подмосковье. В результате, туда направили всех, кто планировал учиться на физическом факультете в этих трех университетах, поэтому конкурс на Факультет общей и прикладной физики в тот год составил девять человек на место. Однако, даже при наличии отличных оценок и достаточном количестве баллов, прохождение по конкурсу не гарантировало поступления, поскольку необходимо было успешно пройти собеседование.
— И о чем вас спрашивали, не помните?
— Мне посчастливилось: я увлекался радиолюбительством (сейчас это, возможно, не всем понятно), посещал кружок, где мы часто паяли, например, радиоприемники. Как сделать самый простой радиоприемник, меня попросили сделать, и это не вызвало у меня затруднений, так как я самостоятельно переделывал их множество ради интереса и экспериментировал с ними.
— За свою жизнь я работал в различных регионах мира: в России, на Западе и на Востоке. Как вам кажется, какая система организации науки наиболее эффективна?
— В 1990-х годах значительное число российских ученых эмигрировало на Запад, где их приняли с энтузиазмом. В местах их появления возникло явление, которое сейчас называют «русским семинаром». Подобной практики, когда слушатели с большим интересом и вниманием задают докладчику многочисленные вопросы, касающиеся представленной работы, больше нигде в мире не наблюдается.
Повсеместное появление российских ученых на Западе сопровождалось возникновением известного мема о «русском семинаре»
— Порой создаётся впечатление, что они вот-вот начнут ссориться.
— Это поведение не считается нормальным во многих культурах, например, в Японии или Англии. В советское время академические институты выполняли важную функцию: в них работало много специалистов в различных областях, к которым можно было обратиться с вопросом и получить консультацию. Таким образом, создавалась насыщенная, профессиональная и открытая среда. Это имело большое значение. Когда я работал в Японии, я просто обращался к специалистам в нужной области для обсуждения идей. Представляю, что для них это могло показаться неожиданным. Но мне это было необходимо, и меня удивило, когда после объяснения специалист говорил: «Хорошо, я подумаю» — и уходил. Такого открытого общения, как у нас, там не наблюдается. Поэтому часто, когда несколько российских ученых собираются в иностранном институте, они начинают обсуждать вопросы между собой, что способствует развитию темы.
— А если рассматривать общее устройство жизни, то где вам было проще? Какие-либо привычки, возможно?
— В Японии я чувствовала себя очень комфортно, а в Англии – нет. Общая обстановка и образ жизни там показались мне довольно провинциальными и даже мрачными. Кажется, что многие вещи работают неэффективно. Однако, это лишь мое личное мнение, и с ним, вероятно, не согласятся многие.
— Кажется, Япония настолько отлична от привычного мира, что производит впечатление другой планеты, а её жители — представители инопланетной цивилизации.
— Хотя их реакции и отличаются, они проявляют исключительную добросовестность во всех сферах жизни, от работы до быта, поэтому я чувствовал себя очень комфортно в Японии. Кроме того, моя жена и дочери свободно владеют японским языком, что значительно упрощало мне жизнь. Первое время мне было немного неловко, однако вскоре я осознал, что мои трудности с японским — не моя вина, а их. То есть, когда возникает необходимость и это важно, они способны донести свою точку зрения. После этого все наладилось.
— Вы пережили землетрясение в Японии, которое привело к повреждению станции Фукусима?
— В 2011 году я находился в городе Цукуба, где расположено большое количество научных учреждений. Начались ощутимые толчки непосредственно во время научного семинара. Естественно, мероприятие пришлось прервать, и мы вышли на улицу. Землетрясение продолжалось около пятнадцати минут. Страха не возникло, поскольку здание лаборатории было очень надежным. В Цукубе разрушений было незначительное количество, а все основные проблемы и жертвы пришлись на побережье, в прибрежных городах, расположенных в неблагоприятных для застройки местах.
— Паника была какая-то?
— Это заслуживает внимания. После землетрясения возникла паника, однако было любопытно наблюдать за различиями в поведении разных национальностей. Китайцы и европейцы действовали импульсивно, стремясь найти способ покинуть это место. Российские ученые же стали собираться по вечерам, напоминая студенческие посиделки у кого-нибудь из них. Все они почувствовали единство, никто не пытался поспешно покинуть это место. Американцы, из числа знакомых мне, также не проявляли особой спешки. И японцы проявляли уважение к тем, кто оставался на месте.
— Постоянно вернулись в Россию в 2022 году, какое решение к этому подтолкнуло?
— Российская лаборатория в МФТИ была создана в рамках программы «Топ-100». После этого я начал работать в Сколтехе, и в связи с необходимостью периодически находиться в России, принял решение перейти в моем Лондонском университете на 50-процентную занятость, что было воспринято без возражений. Однако, примерно в августе 2022 года глава моего физического факультета позвонил и сообщил, что, несмотря на их дистанцированность от политики, чтобы избежать возможных проблем для университета, предлагают два варианта: полный возврат или полный уход. Я ответил: «В таком случае ноль, потому что в России у меня сформировалась сильная молодая лаборатория». Я не мог и не хотел ее бросать. Помню, что в начале событий, когда отменили рейсы из Англии, коллеги спрашивали меня о возвращении. Они, видимо, считали, что я могу остаться там. Я сразу же ответил: «Конечно, вернусь!»
— Какие задачи вы намерены решить? Какие у вас цели и стремления?
— Наша приоритетная цель – сохранение возможности для научной деятельности. Мы рассчитываем на поступление дополнительного оборудования, которое позволит расширить экспериментальные возможности лаборатории, и в этом вопросе мы получаем значительную поддержку от ректора МФТИ. Нам необходимо приобретение криостатов, а также электроники.
— Я читала, что ваши исследования могут помочь решить загадку темной материи. Что это значит?
— Как известно, существует гипотеза о том, что темная материя, несмотря на слабое взаимодействие, все же оказывает влияние на обычное вещество. Согласно одной из теорий, это взаимодействие проявляется в испускании фотонов в СВЧ-диапазоне. Для их регистрации необходимы счетчики СВЧ-фотонов, и у нас есть концепция создания такого детектора. Хотя эта разработка пока не завершена, идея представляется перспективной. Эти детекторы важны для нас для проведения исследований в области квантовой оптики в СВЧ-диапазоне. В настоящее время мы регистрируем электромагнитное поле, но не измеряем энергию непосредственно, то есть фотоны. Наша концепция заключается в том, что специально разработанная сверхпроводниковая наноструктура позволит регистрировать отдельные СВЧ-фотоны. В случае реализации такого детектора, он будет полезен не только для наших нужд, но и для детекторов темной материи.
— Каким образом ваша деятельность изменила ваше представление о мире, и насколько вы склоняетесь к идеалистическим или материалистическим взглядам?
— Скорее, это мировоззрение определяет характер работы, а не наоборот.
— Как это?
— Я получил образование и начал свою карьеру в советский период. В то время наука имела первостепенное значение и пользовалась большим уважением. Существовало мнение, что она способна точно отражать окружающий мир. Однако, если рассматривать этот вопрос с позиций материализма или идеализма, то ближе к идеализму. Ведь как может разум возникнуть в изначально неразумной Вселенной? Таким образом, я полагаю, что если во Вселенной существует разум – и это подтверждается экспериментальными данными – то сама Вселенная обладает разумом. Возможно, она познает себя через человека. Вопросы веры и наука не пересекаются. Конфликт возникает только тогда, когда наука пытается вторгнуться на территорию религии, и наоборот.
Работа выполнена при поддержке гранта Министерства науки и инноваций Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий», регистрационный номер 075-15-2024-571 (и всемерной поддержке Физтех-Союза).