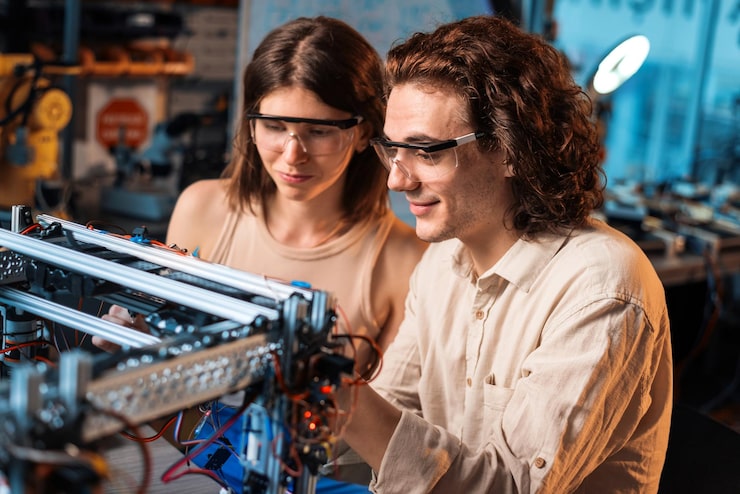В начале XXI века, вероятно, вы уже знакомы с квантовой механикой — и не удивительно, ведь за свою недолгую историю, около ста лет, эта выдающаяся теория стала причиной двух технологических революций!
Первая квантовая революция породила такие технологии, как лазеры, солнечные панели и кремниевая микроэлектроника, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, а вторая разворачивается в настоящее время. Что послужило причиной обеих квантовых революций и как формировалась квантовая механика? Ответы на эти вопросы представлены ниже.
в 1874 году семнадцатилетний Макс Планк, недавно закончивший гимназию, готовился поступить в Мюнхенский университет для изучения теоретической физики. Представить себе удивление юноши можно лишь по тому, как знакомый профессор и его будущий научный руководитель Филипп фон Жолли попытался отговорить его, заявив: «Макс, физика практически завершена, в ней осталось лишь решить несколько второстепенных вопросов».
Статью можно послушать в аудиоформате как подкаст.
Несмотря на это, Макс Планк выбрал физику своим призванием, что в будущем позволит ему переосмыслить фундаментальные принципы этой области знаний.
«Макс, физика почти завершена, осталось лишь изучить несколько незначительных вопросов!»
Началось пересмотр фундаментальных положений с простой лампочки. Одной из «несущественных», по мнению фон Жолли, проблем для физиков конца XIX века было описание излучения тел, разогретых до высокой температуры (например, спирали лампы накаливания, светящейся вследствие нагрева электрическим током). Разработанная Джеймсом Максвеллом классическая теория электромагнетизма не соответствовала экспериментальным данным, особенно в области коротковолнового излучения (так называемая ультрафиолетовая катастрофа). В связи с этим, значительные усилия ученых были направлены на разработку модели, которая могла бы объяснить все характеристики излучения нагретых объектов, известной также как задача «абсолютно черного тела».
Необходимость в новых технологиях для растущей немецкой промышленности стимулировала работу выдающихся физиков над этой задачей: Густава Кирхгофа, Вильгельма Вина, Фридриха Пашена, Отто Люмера и многих других. Однако, раскрыть секрет «абсолютно черного тела» смог только Планк.
В 1900 году он совершил то, что сам позднее вспоминал как «акт отчаяния». Не в силах получить формулу, правильно описывающую излучение «абсолютно черного тела» в рамках классической физики, Планк поставил перед собой задачу найти новую форму.
Она заключалась в том, что нагретые тела излучают энергию не непрерывно, а дискретно, определенными энергетическими порциями. Энергия этих порций равна частоте излучения, помноженной на некую константу h = 6,626 * 10 -34. Именно эта чрезвычайно малая величина, впоследствии получившая название постоянной Планка, стала причиной возникновения «квантов энергии» (например, фотонов) и ознаменовала начало квантовой механики, которая описывает закономерности, характерные для микромира.
Необычно, но ни сам Планк, ни его соратники, которым он делился своими идеями, не воспринимали квантование энергии как физическую реальность, полагая, что это всего лишь удобный математический прием. Развитие квантовой теории продолжил другой немецкий физик-теоретик, Альберт Эйнштейн. В начале XX века он изучал теоретические аспекты взаимодействия света с металлами: под воздействием света с поверхности металла высвобождались заряженные частицы. Этот процесс впоследствии получил название фотоэлектрического эффекта. Хотя сам эффект был зафиксирован еще в 1887 году, до работ Эйнштейна 1905 года, за которые он впоследствии был удостоен Нобелевской премии по физике, физикам не удавалось его полностью объяснить.
Принимая за основу идею Планка, Эйнштейн предложил, что облучение металлической пластинки происходит не благодаря непрерывному электромагнитного излучения, а посредством отдельных, небольших порций света, впоследствии названных фотонами. Согласно его теории, каждый фотон, попадающий на металлическую пластинку, передаёт свою энергию одному электрону, что позволяет ему покинуть металл. Для того чтобы электроны могли вырваться из металла, фотоны должны обладать определенной минимальной энергией, которую Эйнштейн обозначил как «работу выхода». Это простое объяснение фотоэффекта, разработанное Эйнштейном и полностью соответствующее результатам экспериментов, сейчас известно даже старшеклассникам, однако в начале XX века представление о «квантах света» казалось большинству физиков немыслимым, несмотря на уже устоявшееся на тот момент представление о квантовании материи – атомной теории.
Проквантованный атом
Атомы, вопреки представлениям о фотонах как о квантах энергии, оказались не такими неделимыми, как полагал Демокрит, живший почти две с половиной тысячи лет назад. Эксперименты, проведенные Эрнестом Резерфордом, показали, что атом содержит положительно заряженное ядро и отрицательно заряженные электроны, вращающиеся вокруг него по определенным орбитам. Эта «планетарная» модель атома на протяжении нескольких лет доминировала в физике первой половины XX века.
Однако подобный механистический подход к атомной структуре, основанный на принципах классической физики, не выдерживал даже самой простой теоретической проверки: теория электромагнетизма предсказывает, что любой движущийся заряд излучает электромагнитные волны. Таким образом, электроны, вращающиеся вокруг атомного ядра, должны были бы излучать энергию и, как следствие, терять её. Эта потеря энергии привела бы к замедлению электрона до полной остановки и последующему падению на положительно заряженное ядро; по расчетам, этот процесс должен был бы занять лишь доли наносекунды. Что же объясняет тот факт, что электроны не падают на ядра, и почему большинство атомов демонстрируют высокую степень стабильности?
В соответствии с теорией электромагнетизма, все электроны должны стремительно упасть на ядра атомов, занимая невероятно короткий промежуток времени – наносекунду. Однако этого не происходит. В чем причина?
Этот парадокс был разрешен молодым датским физиком Нильсом Бором, который пришел к выводу, что квантование энергии недостаточно. Он предложил «квантовать» сам атом, выделив лишь определенное количество квантованных орбит из бесконечного множества потенциальных положений электронов. Это противоречило общепринятым представлениям, согласно которым электроны могли располагаться на любом расстоянии от ядра, однако объясняло, почему электроны не падают на ядро.
Согласно теории Бора, изменение энергии электрона происходило только при переходе между разрешенными орбитами, а не во время нахождения на одной из них. Аналогично электрону, небольшой мячик может устойчиво находиться на любой ступеньке лестницы, но не в промежутке между ними, и теряет потенциальную энергию только при скатывании с одной ступеньки на другую.
Позднее была выяснена настоящая причина, по которой Бор постулировал существование разрешенных орбит: она заключалась в квантовании углового момента электронов в атоме (параметра, описывающего движение по круговым траекториям). Согласно этой особенности, угловой момент может изменяться лишь на величину, кратную постоянной Планка. Используя разработанную им теорию, Бор смог точно вычислить частоту электронных переходов в атоме водорода, которая полностью соответствовала спектральным линиям, полученным в результате экспериментальных измерений, выполненных в лабораториях по всему миру. Победа только зарождающейся квантовой механики казалась абсолютной и неоспоримой.
Вероятность и корпускулярно-волновой дуализм
В рамках изложенной теории Бора существовало одно необъяснимое обстоятельство, касавшееся квантовых переходов. Оказалось, невозможно установить точное местоположение электрона во время перехода с одной орбиты на другую. Переход между орбитами, или энергетическими уровнями, должен был происходить мгновенно, поскольку в противном случае, в течение всего времени перемещения с одной орбиты на другую, электрон непрерывно излучал бы энергию. Однако, как можно было принять к сведению эти внезапные «квантовые прыжки»?
Случайность и непредсказуемость квантовых явлений вызывали вопросы не только у Бора, но и у Эйнштейна, продолжавшего работу над квантовой теорией. Упростив модель атома Бора до минимума, оставив лишь два допустимых энергетических уровня, Эйнштейн показал, что в нем могут происходить два типа излучения. Спонтанное излучение фотона возникает при переходе электрона с более высокого энергетического уровня на основной, а вынужденное излучение — под воздействием фотонов определенной частоты, совпадающей с частотой перехода между основным и возбужденным состояниями. Несмотря на то, что впоследствии эффект вынужденного излучения послужил основой для создания лазеров, для Эйнштейна главным было вероятностный характер спонтанного излучения, которое, как и радиоактивный распад, могло произойти в любой момент времени с заданной вероятностью.
Квантовая неопределенность вызвала у Эйнштейна глубокое беспокойство и заставила усомниться в способности квантовой механики адекватно описывать реальность. Однако, к началу 1920-х годов, американский ученый Артур Комптон провел исследования по рассеянию рентгеновских лучей на графитовых пластинах, которые выявили закономерное увеличение длины волны рассеянного излучения по сравнению с первичным. Данный эффект не мог быть объяснен с позиций волновой теории.
Предложив рассматривать рентгеновское излучение как поток квантов – фотонов с высокой частотой, Комптон дал логичное объяснение явлению. Фотоны, сталкиваясь с электронами кристаллической решетки графита, подобно мячикам для тенниса, упруго отражались от них, передавая часть своей энергии, которая переходила в колебания кристаллической структуры. В соответствии с формулой Планка, потеря энергии сопровождается увеличением длины волны излучения. Следовательно, эффект Комптона стал первым, не подлежащим сомнению, подтверждением существования квантов света – фотонов, обладающих свойствами, характерными для квантовой механики.
Открытие эффекта Комптона предоставило первое несомненное свидетельство квантовой природы света
Хотя квантовая теория и одержала очередную победу, физическая картина мира не стала более понятной. Ученых смутило то, что возникшая ситуация противоречит устоявшейся теории света: одни явления, такие как интерференция и дифракция, требуют волнового объяснения, в то время как другие, включая эффект Комптона и фотоэлектрический эффект, могут быть описаны только при рассмотрении света как состоящего из частиц. Наступала новая эпоха корпускулярно-волнового дуализма – ключевого понятия квантовой механики, с его парадоксальностью, к которой исследователям в конечном итоге пришлось согласиться. Однако для убеждения всего научного сообщества в обоснованности такого подхода требовались дополнительные подтверждения.
Поиск способа их получения стал навязчивой идеей для французского физика Луи де Бройля. Он поставил вопрос: если волне света можно сопоставить частицу — фотон, то можно ли, в свою очередь, представить частицу, такую как электрон, в виде волны? Эта идея казалась нелепой, поскольку к тому времени физики не подвергали сомнению, что электроны – это частицы, и что корпускулярное описание вполне достаточно для описания их характеристик. Однако де Бройль придерживался иного мнения. Он предположил, что электрону можно сопоставить некую «вымышленную» волну, частота и длина которой полностью определяют положение электрона в атоме Бора. Такой подход, как оказалось, позволяет объяснить, почему электрон на стационарных орбитах Бора не теряет энергии. Это связано с тем, что на них располагается целое число волн де Бройля, соответствующих электрону, и формируется стоячая волна — явление, известное в физике, при котором не происходит потери энергии.
Идея де Бройля получила экспериментальное подтверждение благодаря американцу Клинту Дэвисону, который исследовал взаимодействие электронов с различными материалами. В ходе одного из экспериментов, когда в качестве мишени он использовал крупные кристаллы никеля вместо никелевого порошка, на их поверхностях наблюдалась дифракция электронов – явление, заключающееся в наложении волн и приводящее к изменению интенсивности. Это привело к неожиданным результатам рассеяния. Следуя рекомендациям коллег, американский ученый смог определить длину волны дифрагирующего электрона на основе полученных данных, и она оказалась идентичной значению, предсказанному теорией де Бройля.
Практическое применение этому открытию последовало вскоре: благодаря гораздо меньшей длине волны электрона по сравнению с длиной волны видимого света, электрон позволяет исследовать объекты значительно меньшего размера. В 1931 году был создан электронный микроскоп — одно из первых достижений первой квантовой революции, и он до сих пор остается важным инструментом в различных научных дисциплинах.
Новое поколение квантовых механиков
Хотя пионеры квантовой механики, такие как Планк, Эйнштейн, Бор и де Бройль, внесли неоценимый вклад в науку, для дальнейшего прогресса требовался новый подход — поколение ученых, которое не было сковано догмами классической физики и не искало в них решения. Такие имена, как Шредингер (кто забыл про его знаменитого кота?), Гейзенберг и Паули, знакомы каждому, кто изучал квантовую механику. Их роль в формировании современной квантовой механики трудно переоценить, поскольку именно они подтолкнули таких авторитетов, как Бор и Эйнштейн, к попыткам понять и интерпретировать квантовую механику, возникшую благодаря их работе.
Какие же ключевые результаты были получены представителями нового поколения теоретических физиков? Благодаря Эрвину Шредингеру, развивавшему идеи де Бройля, в квантовую физику вошла концепция волновой функции, которая описывает любую квантовую систему и ее изменение во времени. Шредингер стремился не создать «новую физику», а скорее установить связь между классическим описанием макроскопических объектов и квантовым миром. По мнению Шредингера, волновая функция отображала «размытость» квантового объекта в пространстве, его одновременное присутствие в нескольких точках (суперпозицию). Эта интерпретация сразу вызвала критику со стороны других физиков, которые вскоре пришли к современному пониманию реального смысла волновой функции, как описывающей распределение вероятностей нахождения квантовых объектов в определенном месте или состоянии.
Вернер Гейзенберг, еще один молодой физик-теоретик, вместе с коллегами разработал свою интерпретацию квантовой механики, основанную на использовании матричного метода — так называемую матричную механику. Эта версия впоследствии оказалась полностью сопоставимой с волновой механикой Шредингера. Впоследствии Гейзенберг сформулировал принцип неопределенностей, который утверждает, что некоторые пары характеристик квантовых систем не могут быть измерены с произвольной точностью одновременно. Наиболее распространенным примером этого принципа является невозможность одновременного точного определения положения и импульса квантовой частицы.
Знаменитый физик Вольфганг Паули обнаружил еще одну важную характеристику квантовых объектов — спин, в процессе разработки правил заполнения электронных оболочек в атоме и при изучении классических экспериментов, демонстрирующих движение элементарных частиц в магнитном поле. Спин – это дополнительная внутренняя степень свободы квантовых объектов, их собственный магнитный момент, который может принимать целочисленные или полуцелые значения, а также быть равен нулю. Часто спин электрона ошибочно описывают как направление его вращения (представляя электрон в виде вращающегося шарика), однако такая классическая интерпретация, хотя и наглядна, не соответствует ни аналитическим, ни экспериментальным данным.
От теории к практике
Благодаря усилиям трех выдающихся ученых, сформировавших новое поколение квантовых физиков, к 1930-м годам квантовая механика превратилась в эффективный инструмент, позволивший объяснить ранее неизученные закономерности микромира. Несмотря на то, что среди создателей квантовой механики существовали разногласия относительно ее интерпретации, ее значение для научно-технического прогресса трудно переоценить. Поэтому период стремительного технологического развития, последовавший за созданием квантовой механики, принято называть первой квантовой революцией.
Рассмотрим два важных примера. Вклад Альберта Эйнштейна и английского физика Поля Дирака послужил основой для создания лазера (от английского «light amplification by stimulated emission of radiation» — усиление света посредством вынужденного излучения) во второй половине XX века — квантового источника монохроматического излучения, сформированного в узкий пучок с высокой интенсивностью. За исследования лазеров и связанных с ними технологий Нобелевскую премию получили многочисленные ученые, а сами лазеры нашли широкое применение практически во всех областях человеческой деятельности — от промышленных резаков, DVD-дисков и лазерного автофокуса в телефонах до сканеров штрихкодов, коррекции зрения и лазерной хирургии.
Широкое распространение лазеров, обусловленное их уменьшением в размерах, стало возможным благодаря активным исследованиям полупроводниковых материалов, свойства которых удалось описать с использованием принципов квантовой механики. Первые полупроводниковые транзисторы были созданы на основе ранних исследований, проведенных в 1930-1940-х годах, и в 1960-х годах, благодаря своей миниатюризации, стали ключевыми компонентами современной электроники, без которой трудно представить современную жизнь. Кроме того, оборудование и инструменты, применявшиеся в микроэлектронной промышленности, постепенно стали использоваться в исследовательских лабораториях и институтах, что обеспечило значительный прогресс в областях, не связанных напрямую с микроэлектроникой: например, электронная микроскопия в биологии и медицине, которая позволила впервые непосредственно наблюдать многие вирусы, белки и внутриклеточные структуры.
Современная жизнь немыслима без транзисторов.
Еще один, более трагичный пример первой квантовой революции – создание в рамках Манхэттенского проекта атомного оружия и горькие последствия его применения в Хиросиме и Нагасаки. Однако, мирное использование энергии, высвобождающейся при распаде радиоактивных элементов (урана, тория или плутония), позволило в конце 1950-х годов сформировать новую отрасль – атомную энергетику. Эта отрасль обеспечивает электроэнергией промышленность как развитых, так и развивающихся стран (до 75% от общего потребления). Ведутся работы и по освоению управляемого термоядерного синтеза легких атомов в качестве источника экологически чистой энергии, наиболее крупный проект среди которых – международный реактор ИТЭР.
С момента зарождения квантовой механики исследования квантового мира также претерпели значительные изменения. Благодаря технологическому прогрессу за многие десятилетия, стало возможным не только наблюдать и описывать квантовые системы, но и создавать, а также управлять объектами и их квантовыми свойствами в наномасштабе. Это закономерно приводит к тому, что речь идет о наступлении второй «квантовой революции». В следующей статье нашего спецпроекта будет более подробно рассмотрены причины, перспективы и потенциал, которые она открывает.
Это первая публикация из серии статей, посвященных квантовым компьютерам, которую мы подготовили в рамках спецпроекта совместно с Homo Science. Первую часть можете прочитать по этой ссылке.