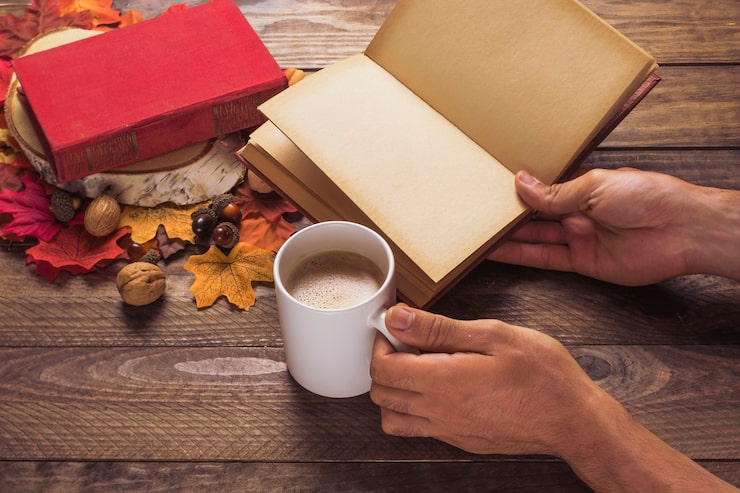Екатерина Задирко, исследователь из Кембриджского университета, провела анализ 25 дневников, созданных советскими подростками в период с 1930 по 1941 год. По мнению ученого, в указанный промежуток времени ведение дневников было для советской молодежи важнее, чем простое выражение подростковых переживаний. Записи в дневниках помогали старшеклассникам понять процесс взросления и определить свое место в обществе.
Екатерина Задирко имеет степень бакалавра в области русской и испанской филологии, полученную в Российском государственном гуманитарном университете, а также степень магистра истории, которую она получила в Высшей школе социальных и экономических наук (Москва). Тема докторской диссертации, над которой она работает в Кембриджском университете, – изучение дневников советских подростков и их взросление, отражённое в самописьме.
В журнале Slavic Review («Славянское обозрение») вышла статья ученого, в которой она анализирует один из таких блокнотов с заметками. Сделал их Иван Хрипунов, росший в крестьянской семье.
Начиная с января 1937 года, когда ему исполнилось 14 лет, подросток в течение пяти лет вел дневник до момента ухода на войну. В двух объемных тетрадях, содержащих 450 страниц, написанных вертикально, он зафиксировал события своей жизни, жизни своей семьи и страны.
В первой части статьи автор изучает влияние соцреализма на писательский процесс главного героя. Во второй части анализируется автобиографическое произведение, созданное по мотивам романа Максима Горького «Мое детство» (1914). В заключительной части Екатерина Задирко исследует повесть Ивана «Смерть Василия Реброва», вошедшую в дневник и зафиксировавшую в нем личность рассказчика.
В 1938 году молодой человек начал вести дневник, планируя использовать его как летопись жизни своей семьи. Ретроспективно он рассматривал это произведение как целостное, имеющее единую цель: «Поскольку с 1937 года я фиксировал все детали своей жизни, мне остается лишь описывать [ее]». В своей автобиографии, написанной в 1941 году, он подтвердил это намерение, отметив, что оно сформировалось постепенно: «Когда я начал вести дневник, я не предполагал, что он <…> станет крупной хронологической летописью быта».
В дальнейшем автор окрестил это произведение «литературным», заявив, что представит в нем свою жизнь и предоставит всесторонний портрет современного общества.
«Екатерина Задирко обратила внимание на то, что, несмотря на то, что «большой труд» был, скорее всего, задуман для публикации, Иван никогда не высказывал намерения обнародовать свой дневник или передать его потомкам в качестве ценной семейной вещи. Это говорит о том, что он видел в своей хронике не средство передачи послания о себе будущим поколениям или широкой публике, а возможность для самопознания, способ, позволяющий освоить искусство создания таких посланий или, точнее, стать рассказчиком. Иван особо подчеркивал качества, которыми должен обладать этот рассказчик. Он должен был быть тщательным и внимательным наблюдателем, готовым описывать любые, даже неприятные, события.
Иван, к примеру, описывал трагический случай, когда его брат Павел стал виновником ДТП, в котором пострадала девушка. Он отмечал, что ему тяжело писать об этом, однако, умалчивать правду он не может. Юноша неоднократно говорил о необходимости вести записи, заставлял себя это делать и стремился изменить собственные черты – избавиться от робости, скромности и застенчивости, от пугливости».
Для преодоления этих черт характера юноша пытался заводить знакомства, находить работу и принимать участие в комсомольской деятельности. Автор исследования этой письменной хроники отмечает, что дневник следует рассматривать не только как средство фиксации его успехов и провалов, но и как простой метод «формирования характера через описание тревожных или напряженных ситуаций».
К 1939 году Иван значительно окреп, заняв должность редактора и оформителя школьной газеты и получив свой первый летний заработок. Теперь его дневник фиксировал не только повседневные события, но и его «интеллектуальную и духовную жизнь».
Подражая стилю письма Максима Горького, юноша повествовал о своих трудностях, включая пережитый его семьей голод 1932–1933 годов, репрессии против отца, унижение матери и старших сестер, произошедшее публично во время раскулачивания.
«Причиной голода стал не неурожай, а тотальная конфискация собранного урожая. Кулаков депортировали на Соловки. Многие невиновные люди пострадали. За отказ сдать хлеб, который у нас забрали, отца нашего сослали в Сибирь… Без хлеба… и вместе с отцом нашим мы голодали… собирали колосья (сбор колосьев был запрещен, и надсмотрщики нередко забирали колосья вместе с нашими сумками); мякину приносили домой и пекли из нее лепешки», — писал Иван.
Он зафиксировал свою автобиографию в виде продолжительной записи, сделанной в начале осени 1941 года. Её структура напоминает роман, «поделенный на главы с заголовками, указывающими на последовательные этапы взросления: ранний период детства, годы школьного становления и зрелое настоящее». Эта работа созвучна трилогиям «Детство», «Отрочество», «Юность» Льва Толстого и «Детство», «В людях», «Мои университеты» Максима Горького, среди прочих прочитанных им книг.
Задирко считает, что Иван «фактически черпал вдохновение из классической литературы, используя их приемы повествования и стремясь создать свою писательскую репутацию, следуя образцу Горького», таким образом осваивая письменный способ выражения своей системы ценностей. В октябре 1941 года он создал повесть, которая была включена в дневник, и некоторые главы были помечены датами, как обычные записи.
«Задирко отметила, что произведение выполняло ту же функцию, что и автобиография, поскольку затрагивало его прошлое и намекало на будущее. Однако, ключевое различие заключалось в том, что главный герой был изображён как полная противоположность Ивану. Автор не только придал Василию качества, которыми сам не обладал, но и создал искажённый образ, отражающий черты, которые он осуждал.
В 1941 году, незадолго до призыва в армию, Иван Хрипунов написал: «Наступает новая эпоха. Именно поэтому я и составил автобиографию… Война заставляет всех повзрослеть. Я считал себя юношей, а теперь меня призывают на службу, как зрелого мужчину». Почти через год он исчез, точная дата его смерти остается неизвестной.
По словам Задирко, эти строки также указывают на то, что даже если дневник оставался личным и не предназначенным для публикации, ведение записей было крайне значимо для этих мальчиков, даже в экзистенциальном плане».
«По словам исследователя, анализ показал, что переписка с самим собой помогала подросткам не только выражать сложные чувства в литературной форме, но и формировать свой повествовательный голос, превращая эти переживания в полезный ресурс для будущей писательской карьеры.
Среди ведотелей дневников со временем появились писатели, и их записи были опубликованы. Некоторые письма печатались в местных газетах, а отдельные фрагменты сегодня доступны в цифровом архиве на платформе «Прожито».