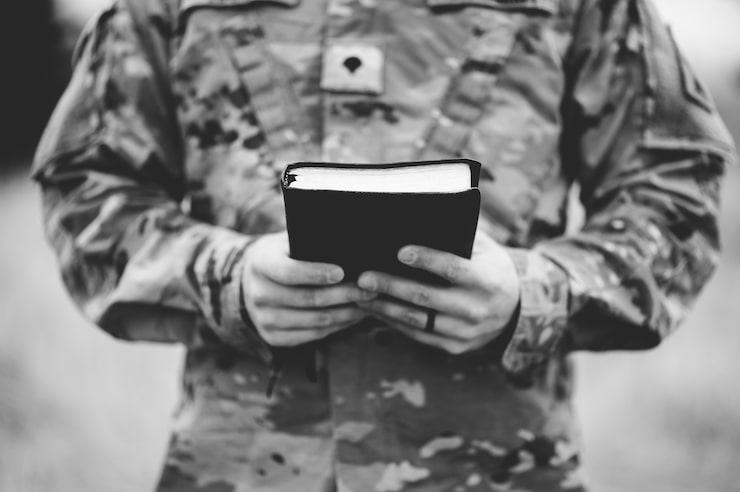Около восьми столетий назад население южной Франции неожиданно перешло к новой религиозной практике. По их собственным утверждениям, они не совершили никаких изменений и продолжали исповедовать христианство, однако в модифицированной форме – как катары. Католическая церковь не поддержала эти «модификации» и признала катаров еретиками. Это послужило причиной Альбигойских войн, в ходе которых остальная Европа начала истреблять катаров с помощью огня и оружия. В чём заключались особенности верований «продвинутых» христиан, которые вызвали такую неприязнь у «консервативных» соратников, спровоцировав первый крестовый поход против западноевропейцев? Кто они были, во что верили и кому молились? Naked Science попытается найти ответы на эти вопросы.
В 1096 году Раймунд IV, граф Тулузы, маркиз Прованса, герцог Нарбонны, стал одним из предводителей Первого крестового похода. Будучи человеком очень религиозным, принимавшим участие в Реконкисте и совершившим к тому времени паломничество в Иерусалим, он первым откликнулся на призыв папы Урбана II и принес обет крестоносца.
Мог ли воин, сражавшийся за Святую землю, представить, что спустя небольшой промежуток времени целью нового крестового похода станут земли, принадлежащие его семье? И что главным противником христианского мира станет его правнук Раймунд VI, граф Тулузы , маркиз Прованса, герцог Нарбонны?
Конец света откладывается
К западноевропейскому обществу к IX веку в значительной степени пришло формирование национальных государств, на территории, где когда-то существовала обширная и громоздкая империя Карла Великого, образовались отдельные государства. Благодаря четко очерченным границам, конфликты стали менее кровопролитными, чем во время формирования этих границ, когда каждая сторона стремилась расширить свои владения. Жизнь в европейских королевствах постепенно стабилизировалась, а влияние церкви в обществе возрастало.
Теологи пользовались большим авторитетом, однако их взгляды порой были весьма необычны. Значительное число из них предсказывали наступление конца света и второе пришествие Христа к тысячному году. Вера в это предсказание была настолько сильна, что в последние годы X века крестьяне в ряде регионов отказывались обрабатывать землю, полагая, что нет смысла трудиться, если надвигается конец света.
К 1001 году стало очевидно, что наступление конца света задерживается. Однако возникло мнение, что задержка составит всего 33 года (тысяча лет отсчитывается не от Рождества Христова, а от Воскресения). 1034 год подошел к завершению, но конца света так и не наступило. Богословы пытались найти объяснения, прибегая к сложным рассуждениям, а народ… народ все меньше им доверял. И дело было не только в том, что их пророчества о конце света оказались неверными. Церковь на глазах у людей превращалась из источника утешения в очередного богатого вельможу, обогащающего себя. К тому же, сами служители церкви зачастую вели себя, мягко говоря, не безупречно — даже не особо скрываясь и не заботясь о целибат, они вели разгульный образ жизни, имели любовных партнеров, окружали себя дорогими вещами и, в целом, не сдерживали себя в пороках.
Около этого времени обострились отношения между Византией и Римом – формально объединённая христианская церковь в 1054 году фактически разделилась на католическую и православную ветви. Авторитет церкви снижался, и существовала опасность утраты ею власти. Необходимо было предпринять какие-то меры.
Лев Гумилев писал, по мнению исследователей, в Европе XI века число энергичных и целеустремлённых людей превышало потребности, необходимые для поддержания обычного уклада жизни». Несмотря на некорректное использование источников, что недопустимо для историка, данная формулировка представляется справедливой. Таким образом, когда византийский император Алексей I Комнин запросил военную поддержку у папы римского Урбана II, тот увидел возможность реализовать новый религиозный проект, отвлечь внимание народа от обсуждения личной жизни епископов и направить энергичных людей в Палестину для освобождения Гроба Господня от мусульман, надеясь на их невозвращение.
Папа римский не принял во внимание разнообразие теологических направлений, распространенных на востоке Европы, в Византии и на Балканах. Речь идет о тех направлениях, в которых христианство было тесно связано с манихейством. Богомилы, павликиане и евхиты разделяли дуалистические взгляды: в их мировоззрении материальный мир воспринимался как источник зла, от которого необходимо было полностью освободиться, а духовный мир считался добром, к которому следует стремиться.
И этот религиозный синкретизм, по всей видимости, это оказало значительное влияние на мировоззрение некоторых крестоносцев, не отличавшихся глубокими познаниями. Они восприняли новые идеи и привезли их на родину. Последователей этих идей в Германии именовали катарами, а в Окситании — альбигойцами, по названию города Альби, где располагался важный епископат.
В историографии под названием Окситания подразумевается территория, занимавшая определенную область окситанского языка: это южная область современной Франции, а также небольшие участки территорий современных Испании и Италии. Владельцы обширных поместий в разные периоды времени вступали в вассальные отношения с различными королями – то с французским, то с арагонским. Однако эти отношения в основном касались вопросов военной поддержки и гарантий ненападения, поскольку эти правители фактически обладали независимостью.
«Хорошие христиане», еретики или… нехристиане?
Конфликт между альбигойцами и католиками нередко изображают как противостояние сурового, бедного Севера, приверженного развращенным церковникам, и благополучного, просвещенного Юга, где люди исповедовали более чистую веру. Зарождению таких оценок способствовали французские историки, исследовавшие катаров. Примечательно, что почти все они родом из южных регионов Франции, что позволяет предположить их расположение на чьей-либо стороне.
Именно историки из этого региона пришли к выводу, что альбигойцы были рядовыми христианами, лишь немного опередившими свое время. Они проповедовали преимущественно на родном языке (позднее подобную практику приняли лютеране), а церковные лидеры не обладали собственностью. В целом, это можно рассматривать как некую раннюю реформацию, которой просто не суждено было появиться в нужный момент. Южнофранцузские историки объясняют жесткую позицию Рима по отношению к этим «протореформаторам» его постоянным стремлением к обогащению, для чего римские папы искали лишь предлог, прикрытый религиозными мотивами.
Немалую роль в романтизации образа альбигойцев сыграло и то, что против них действовала инквизиция, учрежденная именно для борьбы с ними, а жертвы инквизиции обычно вызывают сочувствие. Но насколько благородны были мотивы «добрых людей», так называвших себя катарами)?
Попробуем понять, какие идеи продвигали альбигойцы. В основе их учения лежала критика католической церкви — они утверждали, что она накладывает на жизнь людей излишние и бессмысленные запреты. Альбигойцы отвергали почитание святых, священные реликвии и иконы. Они полагали, что истинный верующий должен быть бедным, поскольку в земной жизни его душа испытывает страдания, и поэтому телу не требуется излишеств. В частности, им было не нужно наслаждаться изысканными и обильными блюдами (сами они были пескетарианцами) и секса.
Хотя истории о католических священниках, злоупотребляющих своим положением, находили отклик в обществе, утверждение о том, что человеку не нужны телесные потребности, вызывало несогласие — потребности были и их было много. Катары осознали, что на подобной основе невозможно заручиться поддержкой народа, и скорректировали свою стратегию.
Они утверждали, что материальный мир далек от идеала, поэтому нарушения аскезы неизбежны. Однако, поскольку все существенное произойдет лишь после того, как душа освободится от материи, подобные нарушения не представляют серьезной проблемы. Лишь немногим удается неукоснительно соблюдать все ограничения и аскезы, и эти немногие достигают Совершенства (становятся верхушкой катаров). Остальные же могут вдоволь предаваться чревоугодию и заниматься сексом, но их души, когда настанет положенный срок, все равно очистятся и вознесутся на небо. При этом существует одно условие: необходимо провести обряд консоламента (consolamentum, что с латыни переводится как «утешение»).
Консоламент был доступен только Совершенным. Обряд позволял очистить душу и получить прощение грехов, что можно сравнить с католической индульгенцией, однако с одним существенным отличием: консоламент проходился лишь однажды в жизни. Все грехи, совершенные после обряда, уже не могли быть искуплены, что существенно ухудшало шансы души на существование в загробном мире. Поэтому люди стремились пройти его в самый последний момент, зачастую уже находясь на пороге смерти. Такой подход к вере находил отклик у народа: можно грешить на протяжении всей жизни, и никто не сделает замечаний, главное — не упустить возможность пройти консоламент.
Катары в своих проповедях и трактатах не использовали нехристианские источники, хотя и обращались к апокрифам (произведениям религиозной литературы, не вошедшим в официальный церковный канон). Они определяли себя как «добрые люди», а также как «добрые христиане», подчеркивая свою принадлежность к истинным христианам. Таким образом, для провансальского крестьянина или ремесленника из Каркассона переход в катарианство не означал смену веры – становясь катарами, они продолжали оставаться христианами, но в более совершенной форме.
Не менее значимо и то, что катары не являлись группой случайных проповедников. Это была вполне сформированная религия, обладающая собственной организацией, культовыми сооружениями, иерархией, богословами, религиозными текстами и дискуссиями. Они утверждали: «Мы христиане», – и поясняли, что не являются католиками. Но были ли они христианами?
Сохранившиеся катарские тексты на богословские темы, немногочисленные личные письма церковных деятелей и записи Святой инквизиции являются основными источниками информации о них. Особенно ценны последние, поскольку содержат судебные документы, где отстранены от домыслов и представлены фактические данные.
Историки проявили интерес к этим реестрам, основываясь на работах французского специалиста по средневековью Жана Дювернуа. Подробности о его переводах, а также информация о документах инквизиции, с которыми он работал, представлены в его монографии «Религия катаров».
При более детальном изучении обвинений, предъявленных катарам, обнаруживается неожиданный факт: они придерживались весьма своеобразной формы христианства. Ветхий Завет не являлся для них священным текстом. Катарам казалось, что персонаж Ветхого Завета – это воплощение темной силы, создатель материального мира, по сути, дьявол. В связи с этим, десять заповедей не имели для них значения: ведь кто мог бы соблюдать предписания Зла?
Новый Завет, в первую очередь, согласуется с их концепцией дуализма, предполагающей четкое разделение на Свет и Тьму, Добро и Зло. Кроме того, он повествует о благе, воплощенном в Боге – Христе, который, однако, еще не явился в мир.
Несмотря на то, что они называли себя последователями христианства и, казалось бы, признавали Новый Завет, некоторые из них отвергали факт распятия, а следовательно, и воскресения Сына Божьего. По их мнению, его появление в мире было невозможно из-за его несовершенства. Любое воплощение в теле означало бы для катаров заточение светлого духовного начала в нечистой материальной форме. В соответствии с этой логикой, реальное земное существование Христа было невозможным. Его физическое тело (как и его воскресение, в которое они также не верили) представляло собой лишь подражание, не более.
Для них крест не являлся символом религиозной веры, а вызывал ассоциации со страданиями и смертными приговорами, практиковавшимися в Древнем Риме. Неслучайно их собственный христианский символ крест выглядел иначе (см. иллюстрацию). Тем не менее, на данный момент остаётся не до конца выяснено, являлся ли он вообще знаком катаров или только правителей Тулузы.
Среди христиан существуют различные течения. Внимательное изучение исторических источников позволяет понять, что катаров сложно классифицировать как еретиков (несмотря на то, что католическая церковь признала их учение ересью). Они, по сути, не были исказителями христианства, поскольку изначально не являлись христианами. Христиане никогда не считали мир творением дьявола, а приписывали это только Богу. Невозможно всерьез назвать христианином того, кто не верит в воскресение Христа, поскольку это важнейший элемент христианской веры. Наконец, сложно отнести к христианам тех, кто не принимает крест как символ веры.
Провансальскому крестьянину и каркассонскому ремесленнику такие тонкости были неинтересны. Игнорировали их и менестрели, актеры, поэты, которые в изобилии стекались в земли, где доминировали альбигойцы. Там было благополучие, там царила свобода (никто не отлучит от церкви за песню, спетую в нетрезвом состоянии, повествующую о сексуальной жизни епископа).
Лангедок переживал период расцвета, тесно связанный с распространением катаризма. Местные правители не могли игнорировать этот факт и со временем сами становились катарами или оказывали им поддержку. Прежде всего, это касается Раймунда VI, графа Тулузского, о котором мы упоминали в самом начале. Его сосед, Раймунд Транкавель, виконт Альби и Каркассона, с которым он то и дело воевал, то заключал союзы, вероятно, не был катаром, однако проявлял к ним большое расположение.
Рим с раздражением окидывает взглядом Лангедок: разве они не злоупотребляют весельем, не пришло ли им время искупить вину?
Риму катары вызывали крайнюю неприязнь. Это было вполне объяснимо, поскольку их пропаганда началась с острой критики католической церкви. Во второй половине XII века папа римский направлял в Прованс миссионеров-цистерцианцев – монашеский орден, отделившийся в XI веке от бенедиктинцев – чтобы вразумлить местное население и направить их на путь истинный.
Руководители Тулузы и Каркассона не пошли на сотрудничество с миссионерами, а местные жители не обращали внимания на их проповеди. В 1179 году Третий Латеранский собор объявил «катарскую ересь» осужденной, обязав епископов противостоять еретикам всеми доступными средствами – однако не посредством физической силы, а с помощью духовного убеждения и милосердия.
Сложно сказать, сколько времени потребовалось бы Риму, чтобы перейти от разговоров к действиям, если бы в январе 1198 года папой римским не избрали Лотарио де Конти, графа Сеньи и Лаваньи, впоследствии принявшего имя Иннокентия III. Однако, именно он и стал новым папой. По сведениям из Ватикана, Иннокентий неохотно принял папскую тиару, но затем проявил большую энергию.
По его словам, завоевание Иерусалима мусульманами в 1187 году являлось божественным наказанием за слабость христианских правителей и их неспособность установить порядок на подконтрольных им территориях. Особенно критической ситуация представлялась в богатой Окситании. Этот регион обладал прекрасным климатом, плодородными землями, выходом к Средиземному морю и Атлантическому океану, роскошными виноградниками (и винодельнями), а также был частью торгового пути, ведущего в мусульманскую Испанию. Кроме того, там проживали катары, признанные еретиками.
Иннокентий III, как это было принято, начал с проповедей. Он направил своего представителя, монаха-цистерцианца Пьера де Кастельно, в Лангедок. Тот приступил к активной работе: в частности, практически немедленно отстранил от должности епископа Безье, подозревая его в терпимости к ереси. В 1207 году Раймунд VI был подвергнут церковному отлучению из-за его поддержки альбигойцев. Тулузский граф дал обещание исправиться, однако, получив прощение, не выполнил свои обязательства.
Убийство папского легата
Встреча монаха и графа состоялась в начале 1208 года и завершилась скандалом. Папский легат покинул Тулузу и был убит в пути (согласно другой версии, он был заколот в своей постели в замке Тулузы). Установить причастность Раймунда к убийству Пьера де Кастельно на основании имеющихся источников сложно, однако исключать такую возможность нельзя. Но независимо от того, кто совершил убийство Пьера де Кастельно, его смерть стала поводом для военных действий.
Следует отметить, что Иннокентий III был деятельно вовлечен в государственную политику своего времени и активно вмешивался во внутренние дела всех католических государств. Если действия английского короля Иоанна Безземельного вызывали его неодобрение, он прибегал к интердикту, то есть запрещал проведение всех церковных обрядов в Англии. Это значительно ухудшило отношения короля с его подданными, которые и без того не испытывали к нему особого расположения, что, впрочем, является отдельной историей).
Конфликт коснулся и Франции. Его причиной стало нежелание короля Филиппа II Августа удовлетворить требование папы Иннокентия и остановить войну с Англией. Он заявил: «Дела папские не касаются того, что происходит между королями», и сам столкнулся с интердиктом. Необходимо было найти компромисс, но что король мог предложить Иннокентию?
После убийства Пьера де Кастельно их цели оказались схожими. Папа Римский предложил Филиппу обратиться на юг, чтобы одновременно решить две задачи: подавить ересь, что было выгодно Риму, и захватить плодородные земли, что принесло бы пользу королю и рыцарям. Предложение Филиппу показалось весьма привлекательным, поскольку Раймунд VI являлся союзником его противников — англичан.
Иннокентий издал буллу, в которой призвал защитников веры, истинных христиан, крестоносцев, чтобы они отправились в Лангедок и силою оружия исправили то, что не удалось изменить проповедью. Земли, принадлежавшие еретикам, были обещанны храбрым рыцарям.
На первый взгляд, аргументы южнофранцузских историков представляются убедительными: папа римский санкционировал изъятие земель и собственности, что позволяет предположить нерелигиозную причину начала Альбигойских войн. Тем не менее, тот же Иннокентий III осудил крестоносцев, грабивших Константинополь в тот же период (хотя впоследствии изменил свою позицию, скорее всего, по соображениям практической выгоды, надеясь использовать ситуацию для объединения христианской церкви). Если бы он оправдывал экспансионистские стремления королей и сеньоров, то почему только в отношении катаров, а не Константинополя, который он считал еретическим? По всей видимости, речь идет о религиозных убеждениях катаров, которые, как мы выяснили ранее, вряд ли можно назвать даже еретиками-христианами.
Французский историк и писатель Мишель Рокебер в своей, отчасти художественно оформленной, «Истории катаров» приводит такую речь папы:
«Вперед, воины Христовы! Вперед, доблестные воины христианской армии! Когда вы слышите вселенский крик скорби святой Церкви, вас охватывает благочестивое стремление отомстить за столь серьезное оскорбление, нанесенное лицу вашего Бога. […] Церковь в тех землях безутешна, она поглощена печалью и скорбью, вера угасает, а мир исчез; еретическая зараза и воинствующее безумие набирают все большую силу; Церковь будет обречена на полное крушение в этой новой и страшной буре, если ей не будет оказана мощная поддержка […] Да будет позволено каждому католику не только лично сражаться с графом Тулузским, но и захватывать и удерживать его владения, пока мудрость нового правителя не очистит их от ереси и не позволит им благополучно от нее избавиться…»
Симон де Монфор, крестоносец, противостоял правнуку героя Первого крестового похода
Тысячи рыцарей и наемников двинулись в Окситанию. К середине 1209 года в Лионе собралось 10 тысяч крестоносцев. Возглавлял их граф Симон де Монфор, опытный воин, получивший признание в битвах на Ближнем Востоке. Во время Четвертого крестового похода Монфор проявил себя, отказавшись принимать участие в разграблении Зары, христианского города, захват которого был инициирован венецианским дожем исключительно в целях личной выгоды. Папа римский отлучил от церкви всех участников бойни в Заре, однако Монфор избежал подобной участи.
На землях Окситании он действовал в том же ключе, что и при столкновениях с неверными в Иудее, проявляя крайнюю жестокость. 22 июля 1209 года крестоносцы достигли Безье, города, находившегося под властью Раймунда Транкавеля, и потребовали открыть ворота, однако получили отказ. Город обладал надежной системой укреплений и был способен выстоять в длительной осаде, поэтому крестоносцы приступили к развертыванию лагеря у его стен.
Во время их раздумий, один из катар, не отличавшийся особым умом, убедил гарнизон Безие нанести внезапный удар — он предложил напасть на наемников-брабансонов (отдельные от крестоносцев формирования, независимые кондотьеры). Предпринятая вылазка обернулась тем, что брабансоны проникли в город, преодолев сопротивление его защитников. Наемники действовали безжалостно: убивали всех, кто попадался на их пути, взламывали двери церквей, уничтожали тех, кто пытался найти убежище в них, и присваивали себе ценности.
Войдя в Безье, крестоносцы обнаружили, что большая часть имущества уже была разграблена наемниками. После изгнания последних, немногочисленным выжившим жителям было обещано безопасность для католиков.
Это была ложь. Все проясняет знаменитая фраза папского легата Арнольда Амальрика. Когда его спрашивали, как различить катара и католика, он ответил (по приблизительной информации, цитата оспаривается историками): «Убивайте всех, Бог распознает своих». Именно так и было сделано: уничтожили всех. А город подожгли выгнанные и обиженные наемники.
Слава о суровой участи Безье вскоре распространилась по другим городам Окситании. Действительно, некоторые катарские замки передавались войскам без сопротивления, однако это касалось далеко не всех. Осада Каркассона грозила стать продолжительной, ведь это была огромная и надежно укрепленная крепость. Захватчики, окружив город, прервали подачу воды в Каркассон. В результате, поскольку за стенами находилось значительное количество не только горожан, но и крестьян, запасы воды в городских колодцах стали иссякать.
Раймунд Транкавель направился в лагерь крестоносцев для обсуждения условий капитуляции, гарантирующих безопасность его подданных, однако был пленён. Благодаря вмешательству арагонского короля Педро II, который также участвовал в переговорах, ему удалось убедить Монфора отказаться от организации массового убийства.
Людей, исповедовавших альбигойство и проживавших в городе, обязали покинуть его, что и было выполнено через две недели после начала осады. Транкавеля, вопреки данным обещаниям, не освободили, и он скончался три месяца спустя в карцер каркасонской тюрьмы (согласно одной из версий – был убит).
«По дороге идёт монах Доминик — ещё не святой, пока не святой…»
С другими городами катары не встречали снисходительности. И на то были свои, не связанные с военными действиями, причины. Вместе с армией Монфора по охваченному пожарами Лангедоку двигался испанский монах Доминик де Гусман, впоследствии ставший Святым Домиником и основателем ордена доминиканцев. Впервые он побывал в Окситании в 1203 году, по пути. Но даже непродолжительного знакомства с ситуацией оказалось достаточно, чтобы он осознал, насколько взгляды альбигойцев расходятся с христианскими.
Его потрясла широта ереси, и вскоре он направился в Прованс, став странствующим проповедником, попрошайкой, то есть он использовал катаринскую идею нищенства, обратив её против самих катаров. Этот прием оказался эффективным, и часть катаров покаялись, вернувшись в католическую церковь.
По мнению Доминика, остальные не могли испытать раскаяния, поэтому их необходимо было уничтожать. Именно такие проповеди произносил монах, обращаясь к войскам Монфора. Он заранее даровал им прощение, если те случайно лишат жизни не еретика. Таким образом, у крестоносцев не было оснований проявлять сдержанность, и они приступили к делу с исключительной жестокостью. Например, известно, что в городе Лавор в 1211 году ими было убито не менее 400 (вероятно, больше) представителей Совершенных, а также хозяйка замка Героду де Лавор — ее забросили в колодец и завалили камнями.
В 1213 году армия арагонского короля Педро II прибыла на помощь тулузских катаров. Он объединил свои войска с силами Раймунда VI Тулузского, являвшегося родственником Педро, и предпринял осаду города Мюре. Монфор был вынужден послать крестоносцев к стенам Мюре, однако это было лишь небольшое подразделение. По мнению историков, Монфор вывел около тысячи рыцарей и около 600 пехотинцев, обеспечивающих прикрытие тылов. Войско Педро и Раймунда насчитывало приблизительно 3,5 тысячи рыцарей и от 40 до 50 тысяч пехотинцев.
Несмотря на значительно большее число катаров, крестоносцам удалось одержать решительную победу благодаря успешному обходу в тыл. Арагонский король пал в сражении, а граф Тулузский бежал в Англию – его третья, уже умершая к тому времени жена, английская принцесса Иоанна, была сестрой королей Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного.
Симон де Монфор продолжал завоевывать Лангедок и в 1215 году захватил Тулузу. Ему было присвоено звание графа Тулузского, а также переданы земли Транкавеля. Кампания против «еретиков» – как уже упоминалось, катары вряд ли соответствовали этому определению – имела значительные успехи.
В апреле 1216 года Раймунд VI, сопровождаемый своим сыном (который впоследствии стал Раймундом VII), вернулся из Англии и объединил вокруг себя катаров, бежавших от Монфора. Он захватил город Бокер в ходе осады, несмотря на попытки Монфора вернуть его. В сентябре 1217 года, воспользовавшись отсутствием Монфора, который находился в другом месте, Раймунд приблизился к Тулузе, где жители с ликованием открыли перед ним городские ворота и жестоко расправились с католическим гарнизоном. Монфор спешно вернулся и осадил Тулузу, но был убит под ее стенами, став жертвой камнемета.
Титул графа Тулузского, по мнению отца и французского короля, переходил к Амори де Монфору, сыну Симона. Поскольку ты теперь граф, тебе надлежит вернуть свое графство. Амори де Монфор не обладал столькими военными способностями, как его отец, поэтому французский король выделил ему вспомогательное войско, которым руководил его сын, впоследствии ставший королем Франции Людовиком VIII Львом. Взамен Амори постепенно передавал французскому королю права сюзеренитета над всеми своими владениями в Лангедоке, полученными им по наследству от отца.
Пока что им позволено существовать, но лишь ограниченное время и под контролем инквизиции
Вероятно, катаров бы окончательно уничтожили, но смерть папы Иннокентия III в 1216 году изменила ситуацию. Его преемник, папа Гонорий, вскоре потребовал более мягкого подхода к альбигойцам. За год до кончины Иннокентий III учредил Святую инквизицию – специальный церковный суд, предназначенный для выявления, наказания и предотвращения ересей, главным образом, катаризма.
Для установления контроля над Южной Францией военной победы оказалось мало. Местное население могло демонстрировать послушание, однако стоило крестоносцам ослабить бдительность, как вспыхивали новые восстания. С целью удержания этих территорий за христианством, которое отличалось от катаризма, возникла необходимость в обнаружении и устранении лиц, исповедовавших скрытую веру.
Это звучало ужасно, но, вероятно, иной развязки не могло быть. Катары фактически представляли собой иную, нехристианскую веру, которая стремительно распространилась в Окситании, расположенной вблизи центра католической Европы. До этого момента подобного здесь не наблюдалось, и простота трансформации христианского региона в нехристианский вызывала опасения у Рима и католических правителей. Европейцы того времени, готовые сражаться за триумф христианства даже в Святой Земле, на значительном удалении от своих земель, не могли принять его поражение на собственной территории.
Инквизиция, существовавшая в те времена, существенно отличалась от того образа, который демонстрируют художественные фильмы, уважаемый читатель. До эпохи Томаса Торквемады и «Молота ведьм» прошло еще столетие и более. Еретиков не подвергали пыткам с целью добиться признания. Сведения получали благодаря проведению расследований и доверительных разговоров. Значимую роль в этом процессе играли монахи-францисканцы (их орден был учрежден в 1208 году Франциском Ассизским, а в 1209 году получил одобрение папы римского).
Бродячие проповедники, нередко выступающие в роли следователей, обладают убедительностью, и им рассказывают немало историй, плохо согласующихся с христианскими принципами. К примеру, в романе Умберто Эко «Имя розы» монах-францисканец на процессе инквизиции фактически исполняет функцию защитника.
Донесения Святой инквизиции поступали в Рим, и Гонорий не мог оставить их без внимания. В связи с этим в 1225 году Раймунда VII, принявшего управление делами после смерти отца, был отлучен от церкви, а в 1226 году Людовик VIII возглавил новый крестовый поход в Лангедок. Несмотря на то, что французский король неожиданно умер, и на престол взошел малолетний Людовик IX, крестоносцы под предводительством Юмбера де Божё приблизились к Тулузе и начали ее осаду.
В 1229 году Раймунд VII был принужден заключить Парижский договор (также известный как Договор в Мо), который оказался крайне невыгодным для него. Согласно этому соглашению, он лишился всех своих владений и был вынужден публично признать свою вину в ереси в соборе Парижской Богоматери. В дальнейшем он предпринимал попытки восстановить контроль над Тулузой посредством брачных союзов, но эти замыслы не получили реализации.
Где искать Святой Грааль?
Папская тиара перешла к Григорию IX, который расширил полномочия инквизиции и вновь санкционировал уничтожение катаров. Доминиканцы заняли ключевые позиции в инквизиции, отодвинув францисканцев на второй план.
Они не испытывали угрызений совести: религиозные столкновения вылились в уничтожение жителей Альби, Нарбонны, Каркассона и других городов южного региона. Воины-крестоносцы захватывали крепости, а на городских площадях разгорались пожары. Монсегюр, крепость, расположенная в Пиренеях, продержался дольше всех — целых девять месяцев.
Согласно преданиям, именно в это место перед падением Тулузы был доставлен Святой Грааль — мифический предмет, который, как считается, являлся чашей, содержавшей кровь Христа, собранную во время его распятия, и обладал некой мистической силой.
По другой версии, к завершению осады Монсегюра четверо посвященных покинули крепость по скрытому пути, забрав с собой Грааль. Однако есть и другая интерпретация этой истории, согласно которой Грааль остался погребен под руинами Монсегюра и ждет потомков альбигойцев.
Современные источники событий не содержат упоминаний о Граале, и это вполне объяснимо. Как уже отмечалось, катары не верили в то, что Сын Божий когда-либо посещал землю, и отрицали его распятие и последующее воскрешение. Соответственно, кровь Христа не могла иметь для них какого-либо символического значения, поскольку она не занимает места в их религиозных представлениях.
Легенда о Священном Граале, очевидно, появилась позже. Однако на протяжении веков она побуждала людей к поискам Грааля — этот вопрос, по имеющимся данным, всерьез исследовался нацистами в «Аненербе». По имеющимся сведениям, и, судя по всему, проводились какие-то ритуалы в небе над руинами Монсегюра в 1944 году — спустя семь веков после его разрушения в 1244 году. Однако, однозначных подтверждений этому нет.
Керибюс стал последним оплотом катаров. Там они продержались еще одиннадцать лет и капитулировали перед крестоносцами только в 1255 году. К завершению XIII века альбигойство как общественное движение было окончательно искоренено. Несмотря на это, отдельные последователи катаров продолжали исповедовать свои убеждения втайне, однако доминиканские инквизиторы значительно улучшили свои навыки и активно выявляли еретиков. В соответствии с документами, приведенными в монографии французского историка Эммануэля Ле Руа Ладюри, последнего катара сожгли на костре в 1321 году.
Начав с крестовых походов, к ним и обратимся вновь. В XI веке жители Западной Европы решили распространять свою религию не посредством проповедей, а посредством военных действий и оружия. Альбигойские войны вернули практику ведения войн во имя веры на западноевропейский континент. В дальнейшем последовали крестовые походы против пруссов, гуситов, на Русь и в Прибалтику.
Заметно, что ключевую силу в армии Симона де Монфора, а впоследствии и Людовика VIII составляли тамплиеры — воины Ордена рыцарей Храма Господня, учрежденного в Святой земле в 1119 году. Именно тамплиеры осуществляли осаду Каркассона и Тулузы, и именно они взяли Монсегюр. Они же отвечали и за охрану инквизиторов-доминиканцев (которые не являлись воинами). Благодаря их военным победам на территориях Лангедока, кровь католиков и катаров проливалась, а костры Святой инквизиции разгорались.
В 1314 году Жак де Моле, последний великий магистр ордена тамплиеров, был сожжён на костре, установленном на острове Ситэ в Париже. Это, однако, уже относится к иной истории.