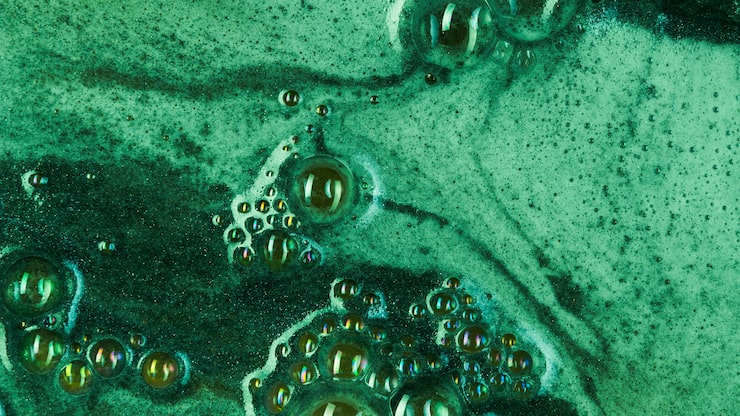Компактные биосенсоры (lux—биосенсоры) для выявления канцерогенов в водных экосистемах создали ученые лаборатории молекулярной генетики Московского физико-технического института. За основу технологии взяты генно-модифицированные бактерии, светящиеся в ответ на разные виды губительного воздействия токсикантов. Разработка успешно прошла испытание на пробах тканей животных, взятых из трех северных морей.
Загрязнение морей токсичными веществами, вызванное деятельностью человека, представляет собой серьезную проблему: это и работа промышленных предприятий, и судоходство, и сельское хозяйство, и добыча нефти. Среди этих химических веществ особую опасность для здоровья человека представляют канцерогены. Они скапливаются в донных отложениях и живых организмах и, перемещаясь по пищевой цепи, могут попадать в рыбу, потребляемую людьми, такую как форель и семга. В связи с этим, достоверная оценка уровня опасности морских экосистем является необходимостью.
Новая разработка специалистов МФТИ представляет собой перспективную альтернативу общепринятым методам анализа загрязнений, которые обычно требуют многоступенчатой обработки и использования дорогостоящего оборудования, но не всегда дают возможность оценить фактическое воздействие вредных веществ на живые организмы. В отличие от стандартных подходов, инновационная технология позволяет не определять наличие отдельных химических соединений, а оценивать уровень их накопления в морских организмах и комплексное влияние на клетки.
В качестве основы для биосенсоров ученые выбрали два вида бактерий — лабораторный штамм кишечной палочки Escherichia coli, часто используемый в биологических изысканиях, и сенную палочку Bacillus subtilis. Для того чтобы вызвать свечение микроорганизмов под воздействием канцерогенов, ученые внесли изменения в их ДНК. Это позволило создать высокочувствительный и оперативный инструмент для оценки загрязнения окружающей среды. Интенсивность свечения позволяет определить степень воздействия токсичных веществ на клетки. Исследователи разработали несколько штаммов микроорганизмов, каждый из которых реагирует на конкретное нарушение, вызванное отравлением. Таким образом, новые биосенсоры позволяют определить общую токсичность среды для живых клеток, окислительный стресс, SOS—ответ, алкилирование ДНК и ряд других.
Главный научный сотрудник, руководитель лаборатории молекулярной генетики МФТИ и доктор биологических наук, рассказал корреспонденту «Научной России» об этой инновации Илья Владимирович Манухов.
«Мы использовали гены, определяющие люминесценцию морских бактерий, и поместили их под контроль специального промотора. Промотор – это участок ДНК, который регулирует экспрессию генов, определяя, как часто и насколько эффективно тот или иной ген проявляется в фенотипе. В рамках нашего исследования мы использовали промоторы, которые активируются при воздействии различных стрессовых факторов, — объяснил И.В. Манухов. — Бактерия может реагировать на повреждающее воздействие токсиканта в окружающей среде, вызывающего окислительный стресс (например, перекись водорода). Для противодействия окислительному стрессу у нее имеется специализированная система, которая реагирует на наличие перекиси в среде. В ходе наших экспериментов мы в основном изучали SOS-ответ, за который отвечает ген recA, “чувствующий” повреждения ДНК. Молекула ДНК представляет собой двуцепочечную спираль, и при возникновении одноцепочечных разрывов в ней, на это реагирует белок, кодируемый геном recA, который активирует в клетке бактерии системы репарации — восстановления целостности ДНК <…>.
Используя уникальную способность бактерий, мы размещали гены люминесценции под контролем промоторов, реагирующих на различные типы стресса. Это позволило создать клетки, которые начинают светиться в ответ на воздействие определенных токсических веществ. В результате, мы разработали штаммы микроорганизмов, чувствительные к окислительному стрессу, повреждениям ДНК, тепловому стрессу, связанному с денатурацией белков, и другим подобным факторам».
Технология была успешно протестирована на образцах тканей, полученных из донных отложений трех северных морей (Баренцевом, Карском и море Лаптевых) на глубинах от 35 до 300 метров. В ходе испытаний исследовались образцы, принадлежащие морскому таракану, морскому пауку и различным видам амфипод (также известных как бокоплавы). Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Biochemistry (Moscow).
Как проводились эксперименты? Первоначально исследователи собирали донные отложения с помощью дночерпателя, после чего морских обитателей извлекали путем промывки. Затем определялся таксономический состав донных организмов, и они измельчались с добавлением пастеризованной морской воды. Полученную суспензию разделяли на жидкую и твердую фракции посредством пятиминутного центрифугирования. В заключение, выделенную надосадочную жидкость добавляли в пробирки с генно-модифицированными бактериями. Условия инкубации варьировались в зависимости от вида микроорганизмов: кишечная палочка инкубировалась при комнатной температуре, а сенная палочка – при 32 °C. Интенсивность свечения бактерий измерялась люминометром несколько раз.
Ученые из МФТИ в своем исследовании сконцентрировались на биосенсорах, предназначенных для определения воздействия токсичных веществ на ДНК бактерий.
«Помимо однонитевых разрывов, ДНК может подвергаться и другим повреждениям, таким как модификация оснований, например, алкилирование. При алкилировании к основанию молекулы присоединяется метильная (CH 3-), этильная (C2H5-) или иная подобная группировка. Такие повреждения система SOS-ответа не всегда идентифицирует. ДНК-полимераза, участвующая в синтезе ДНК во время деления клетки, достигая такого модифицированного основания, не распознает его как ошибочное и может внести неверный нуклеотид. В результате возникает мутация. Это значительно увеличивает скорость мутагенеза, что, в свою очередь, способно вызвать мутации в онкогенах и привести к развитию раковой опухоли. Поэтому наиболее опасны вещества, не вызывающие серьезных повреждений ДНК и активацию SOS-ответа, а вносящие незначительные химические изменения, которые провоцируют ошибку ДНК-полимеразы. Их даже называют супермутагенами», — сказал И.В. Манухов.
Анализ продемонстрировал, что в некоторых образцах тканей животных наблюдалось значительное содержание алкилирующих соединений. Наибольшая концентрация была зафиксирована у видов, обитающих в Баренцевом море. При этом исследование не выявило окислительного стресса или SOS—ответа бактерий.
Как заметил И.В. Манухов, полученные данные оказались весьма неожиданными, учитывая, что общую экологическую ситуацию в Северном Ледовитом океане можно охарактеризовать как стабильную. Специалист отметил, что наиболее высокая концентрация супермутагенов зафиксирована в тканях морского паука, однако на данный момент трудно сделать однозначный вывод о причинах этого явления – связано ли это с биологическими особенностями данного вида или с тем, что это существо обладает значительным сроком жизни и, следовательно, накапливает токсиканты в большей степени, чем, например, ракообразные.
«По всей видимости, осадочные породы содержат алкилирующие вещества, поскольку бактерии не способны их утилизировать из-за крайне низких температур и дефицита кислорода в донных отложениях», — отметил И.В. Манухов.
Исследователь продемонстрировал ряд примеров алкилирующих соединений. К примеру, они способны образовываться в организме человека в процессе переваривания колбасы, в результате реакций, в которых участвует нитрит натрия — компонента, используемого для придания продукту насыщенный розовый оттенок.
Одно из алкилирующих соединений — нитрозодиметиламин — неполное сжигание одного из компонентов ракетного топлива, несимметричного диметилгидразина, приводит к его попаданию в окружающую среду. В связи с этим, технологии ракет, не требующих использования этого вещества для запуска, пользуются повышенным спросом, такие как, например, новые российские носители серии «Ангара».
Хотя вблизи Северного Ледовитого океана находится военный космодром Плесецк, ракетные пуски вряд ли могут быть причиной появления алкилирующих веществ в северных морях.
«В случае, если алкилирующим веществом выступил бы несимметричный диметилгидразин, нитрозодиметиламин мог бы образовываться непосредственно в почве этих районов при взаимодействии с перекисью водорода. Однако, проведенный нами эксперимент не подтвердил эту возможность», — поделился И.В. Манухов.
Нитрозосоединения, еще одна группа веществ, способных повреждать ДНК, формируются при распаде навоза. По мнению исследователей, именно эти соединения скапливаются в осадках, находящихся на дне северных морей.
Ранее ученые уже отмечали аналогичные явления на территории озера Байкал, куда неоднократно отправлялись в составе экспедиций совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Причиной детального изучения загрязнения стало массовое исчезновение рачков-гаммарусов в дельте реки Селенги.
«Выяснилось, что в озеро Байкал из реки Селенги поступают продукты разложения навоза. В Монголии существует значительная проблема перевыпаса скота. Мясо из Монголии закупают как Россия, так и Китай, что является основой монгольской экономики. И, безусловно, в этой стране присутствуют экологические проблемы. Показания измерений свидетельствуют о протекании процесса алкилирования. Вероятно, проблема обусловлена тем, что бактерии в водных потоках не справляются с переработкой объема навоза и мочи, поступающих в реки, что приводит к образованию нитрозосоединений. Считаю, что по сибирским рекам это каким-либо образом попадает и в Арктику, где из-за низкой температуры воды (как и в Байкале) отходы не подвергаются полной переработке, и накапливается алкилирующий потенциал, способный провоцировать распространение онкологических заболеваний», — сказал И.В. Манухов.
Разработчики технологии подчеркивают, что оценка безопасности водоема на основе тканей его обитателей, которые накапливают токсичные вещества и являются ключевыми звеньями в пищевой цепи, представляет собой перспективный метод выявления загрязнения до достижения критического уровня для здоровья людей.
Ученые намерены более тщательно исследовать предположение о том, что навоз является причиной загрязнения северных морей.
«В лабораторных условиях продемонстрировано, что достаточно одной суточной совместной инкубации бокоплавов с алкилирующими веществами (в частности, с метилметансульфонатом), чтобы они начали их аккумулировать. При этом концентрация этих веществ в окружающей среде снижается, в то время как их количество внутри донных организмов увеличивается. Однако аналогичные исследования с нитрозопроизводными пока не проводились. В настоящее время мы пытаемся изучать взаимодействие с соединениями супермутагена, таким как нитрозогуанидин, но его проникновение внутрь гаммарусов затруднено. Тем не менее, при разложении навоза чаще образуются другие соединения: нитрозодиметиламин и нитрозомочевина, поэтому необходимо проведение экспериментов с ними. В сущности, теперь требуется подтвердить, что гаммарусы способны накапливать алкилирующий потенциал при инкубации в среде, содержащей азотистые алкилирующие соединения», — заключил И.В. Манухов. Ученый также отметил, что он и его коллеги изучают возможность разработки биосенсоров, которые будут указывать на другие типы стресса, воздействующего на клетку.
Новость создана при содействии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Фотография на превью и на странице: Александр Лехнович / предоставлено пресс-службой МФТИ