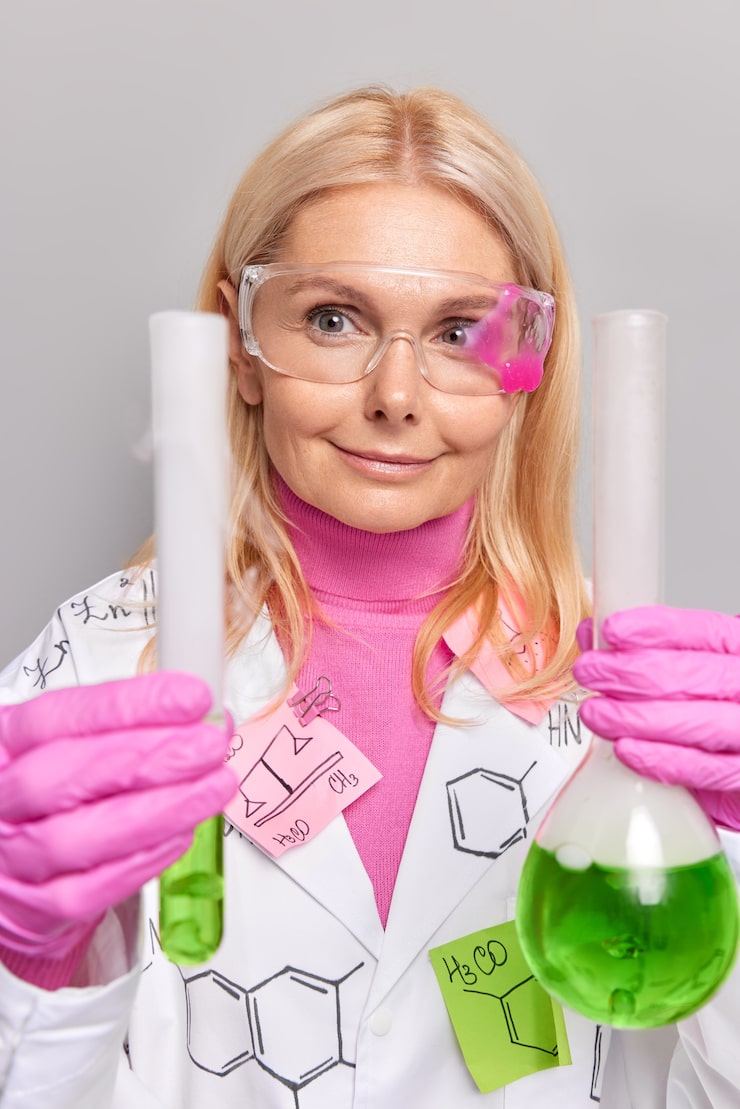Что представляет собой эволюционная физиология? Почему эта область знаний сталкивалась с неприятием? Какие современные исследования ведутся в этой сфере? Рассказывает Михаил Леонидович Фирсов, член-корреспондент РАН и директор Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН.
Фирсов Михаил Леонидович — доктор биологических наук, член-корреспондент РАН. Он является специалистом в области физиологии сенсорных систем и исследует молекулярные механизмы, лежащие в основе работы сенсорных каскадов. Ученый выявил несколько новых регулирующих механизмов в каскаде фототрансдукции позвоночных, описал процесс темновой адаптации фоторецепторов позвоночных и показал, что она включает обратную световую и собственно темновую фазы. Ему также принадлежит математическая модель процесса темновой адаптации, и в настоящее время разрабатывается технология оптогенетического протезирования биполярных клеток сетчатки.
— Недавно я выяснила, что преследованиям в нашей стране подвергались не только генетика и кибернетика, но и физиология. Как сложилась судьба вашего института в период этих гонений?
После этого Л.А. Орбели не подвергся полной репрессии, однако был снят с большинства занимаемых должностей. Ранее он руководил Институтом физиологии и занимал должность начальника Военно-медицинской академии. В конечном итоге у него осталась небольшая группа единомышленников, привязанных к нему не административными методами, а личной преданностью – людьми, сохранившими верность своему учителю. Он сохранил академическое звание, поскольку, насколько мне известно, в нашей стране до этого момента не было прецедентов лишения ученой степени ни при каких условиях, а также остался генерал-полковником медицинской службы в отставке.
— Как Орбели все это пережил?
— Для него это был сокрушительный удар. По моему мнению, наиболее болезненным оказалось не административное отстранение, а предательство со стороны людей, близких ему по духу. Это серьезно повлияло на его состояние. Затем последовала череда событий: скончался Сталин, и через год Орбели дали разрешение на создание лаборатории, и отношение к нему резко изменилось. Вернулось осознание значимости этого человека. Скорее, к власти вернулись те, кто мог воплотить это понимание в реальные действия. Ему предоставили возможность создать лабораторию. И затем наступает весьма любопытный период, поскольку к тому времени ему уже было более 70 лет, а пережитые ранее события негативно сказались на его здоровье. Он осознавал, что это его последний шанс. Он размышлял о том, как наилучшим образом использовать оставшееся время и силы. И решил заняться эволюционной физиологией.
— Почему именно ею?
— Скорее всего, эта тема всегда привлекала его внимание, начиная с молодого возраста, когда он проходил стажировку в Италии на биостанции. Так утверждают его биографы: увидев поразительное разнообразие средиземноморской морской фауны, он столкнулся с растущим в мире интересом к эволюционным аспектам физиологии, объясняющим происхождение различных функций. Этот интерес его и захватил.
Он являлся действующим офицером Военно-медицинской академии, которая в то время носила название императорской. Его командировка была относительно непродолжительной, поэтому он не мог уделять ей все свое время. Затем последовала Первая мировая война, а затем и революция, и у него постоянно не было возможности заниматься этим. Однако, вероятно, он постоянно держал это в поле зрения. После смерти академика И.П. Павлова Л.А. Орбели стал его преемником и, фактически, возглавил советскую физиологию того времени. В 1939 году он основал Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности. Я полагаю, что он успешно развил бы направление эволюционной физиологии уже тогда, но затем началась война, и никому не было до института, в результате чего он был закрыт. В период войны Л.А. Орбели был занят практическим применением физиологических знаний для лечения раненых, изучал гипербарическую физиологию, глубоководные погружения и тому подобное. Он много внимания уделял изучению высшей нервной деятельности. И в конечном счете выбрал эволюционную физиологию.
— Сначала это была лаборатория?
— Да. В январе 1956 года вышло распоряжение правительства о создании института. В следующем году мы отметим 70-летие. Орбели продолжает расширять штат, и все вновь создаваемые лаборатории включают в свои названия слово «эволюционная». Хотя, признаться, эволюционный подход и тогда, и сейчас был эффективным и результативным, просто в то время он не был дополнен широким спектром современных методик. В настоящее время доля исследований, посвященных эволюции, в нашем институте значительно меньше, чем при руководстве Л.А. Орбели. Тем не менее, мы помним наши корни и причины, по которым мы выбрали эволюционный подход к изучению физиологии.
— В вашем институте представлено множество научных направлений, среди которых особое место занимает изучение нейродегенеративных заболеваний и поиск инновационных методов их терапии. Я хотел бы подробнее рассказать о направлении, которое лично мне, как ученому, представляется наиболее интересным – физиология сетчатки. Что это за область?
— Я посвятил всю свою научную карьеру работе в этом институте, за исключением краткосрочных зарубежных стажировок. Первым руководителем лаборатории, которой я сейчас руковожу, был Яков Абрамович Винников, выдающийся морфолог, приглашенный еще Л.А. Орбели. Это была лаборатория эволюционной морфологии. Изначально она была сосредоточена на изучении периферической сенсорной системы, охватывающей все модальности. В фокусе исследований находились рецепторы на клеточном уровне — слуховые механорецепторы (ответственные за слух и равновесие), хеморецепторы (воспринимающие вкус, обоняние и феромоны), а также фоторецепторы как у позвоночных, так и у беспозвоночных. Для исследования структуры клеток уже тогда были доступны электронные микроскопы высокого качества. Единственное отличие заключается в том, что современные электронные микроскопы значительно меньше по размеру, чем их предшественники. Ранее это было целое производственное помещение со своей лабораторией, оснащенное мощными компрессорами для создания вакуума, обслуживание которых осуществлялось инженерами.
В 1970-е годы в лабораторию пригласили двух выдающихся специалистов. Они были почти одного возраста. Оба – выпускники ЛЭТИ, оба – инженеры по образованию, однако, занявшись обслуживанием электронного микроскопа, они проявили любопытство и увлеклись тематикой. Сначала они стали морфологами, а затем и биологами-физиологами с широким кругом интересов. Оба защитили диссертации и получили степень доктора наук в этой же лаборатории, после чего последовательно заняли должности заведующих. Это Феликс Гурьевич Грибакин, при котором я начал работу в лаборатории, и его друг и коллега Виктор Исаевич Говардовский, которого я считаю своим учителем. Я проработал с ним на протяжении всей жизни, до его трагической гибели от COVID-19 в 2020 году.
— Именно они и создали лабораторию?
— В нынешнем виде она и существует. Я возглавил лабораторию в 2013 году. Изначально, под руководством Я.А. Винникова, она была сосредоточена исключительно на морфологических исследованиях и охватывала широкий спектр объектов, однако со временем возник интерес к механизмам ее работы. Это привело к переходу от структурного анализа к функциональному. Начались исследования в области электрофизиологии и разработка необходимого оборудования. Постепенно, от разнообразия исследуемых объектов, мы перешли к разнообразию применяемых методик. Наша лаборатория практически монотематическая и занимается физиологией зрения позвоночных, сетчаткой, используя множество различных методов. У нас сохранились и морфологические исследования, и электрофизиологические методы на уровне одиночной клетки, изолированной сетчатки, на уровне целого животного, включая поведенческие аспекты. Общеизвестно, что сетчатка состоит из палочек и колбочек. Мы изучали и продолжаем изучать каскад фототрансдукции – мощный и сложный внутриклеточный биохимический процесс, который позволяет клетке генерировать электрический сигнал и воспринимать отдельные кванты света.
— Это чисто фундаментальная работа?
— Да, это действительно так, но около девяти лет назад мы высказали руководству, что наблюдается рост числа работ, нацеленных на достижение общественно полезных целей. Существуют серьезные генетические заболевания сетчатки, которые не поддаются лечению. При этих заболеваниях сетчатка постепенно разрушается вследствие врожденного генетического дефекта. Одним из самых тяжелых является пигментный ретинит, связанный с более чем 3000 мутаций в более чем 60 генах. Страдают палочки и колбочки. Данная патология хорошо диагностируется, однако эффективного лечения не существует.
У людей задолго до нас возникла идея: возможно ли воссоздать систему восприятия света, основанную на палочках, колбочках и других клетках сетчатки? Эти клетки не светочувствительны, их функция – обработка сигналов. Сетчатка имеет трехслойную структуру: первый слой состоит из фоторецепторов, которые, однако, утрачены. Второй и третий слои отвечают за обработку сигнала. В этих клетках отсутствует пигмент, необходимый для восприятия света. Предлагалось внедрить туда пигмент или аналогичное вещество, чтобы они начали видеть. Это весьма амбициозная задумка. По сути, помимо научного интереса, здесь присутствует и стремление почувствовать себя творцом, создать собственную систему зрения. Звучит, конечно, очень самонадеянно.
— Несмотря на это, люди научились заменять слуховые аппараты и применяют кохлеарную имплантацию. Восстановление зрения представляет собой гораздо более сложная задача, однако уже предпринимаются перспективные попытки разработки технических средств, позволяющих вернуть зрение. Каковы достижения в этой области?
— При обсуждении протезирования сетчатки можно отметить, что на данный момент в мире существует два основных подхода. Они возникли примерно одновременно, на рубеже 2000-х годов, однако один из них значительно опередил другой, а затем потерял актуальность, в то время как второй сейчас демонстрирует рост популярности.
Первым этапом является чиповое, электронное протезирование. Разработка первых чипов началась в 2004–2005 годах, после чего последовали испытания на животных и период быстрого развития. Несколько перспективных стартапов превратились в крупные компании. Две из них получили одобрение со стороны регулирующих органов США и Европейской комиссии. Это американская компания Second Sight, новый протез получил название «Аргус-2», а европейская модель разработана в Германии Aplha. Эти две компании разработали чипы, которые были имплантированы нескольким сотням пациентов.
— В том числе и в России.
— Да. Эти устройства отличаются по конструкции, однако принцип их действия одинаков: матрица электродов помещается на поврежденную сетчатку глаза и стимулирует ее к повторной активации. В большинстве случаев протезирование оказалось успешным: пациенты начали различать крупные объекты, их очертания, и многие смогли читать крупные буквы.
— Узнавали себя в зеркале!
— Верно. Наличие видимого объекта позволяет ориентироваться в пространстве, что существенно уменьшает степень инвалидности. Это стало огромным достижением, однако имело одно исключение — эффект не является постоянным. Протезы, к сожалению, зарастают глиальными клетками. Они не выходят из строя и не ломаются, но зарастают настолько, что матрица теряет свою функциональность. Срок службы протеза в среднем составляет пять-шесть лет, после чего требуется удаление импланта, а повторная имплантация невозможна.
— С самого рождения нам известно, что жизнь не вечна, хотя продолжительность жизни и увеличивается. Возможно, с развитием технологий этот период осознания станет длиннее?
— Именно так и происходит. Забавная история: обе эти компании, проведя несколько сотен успешных имплантаций, и не имея явных серьезных ошибок, практически одновременно прекратили свою деятельность в 2018 году. Это было вызвано рядом факторов: чрезмерное регулирование, высокая стоимость процедуры — свыше 100 тысяч долларов. Они не смогли создать значительный рынок. Недостаток был не в конструкции протеза, а в бизнес-модели.
— Но эта работа продолжается?
— В настоящее время я знаю несколько десятков не компаний, а стартапов, научных групп, которые публикуют информацию о своих проектах новых чипов и матриц, пока испытываемых на животных. Я полностью согласен, что эти разработки обязательно вернутся, но уже в обновлённом виде и с новыми нормативными требованиями, поэтому важно не забывать об этом направлении.
Вторым направлением исследований, которое сейчас ведется в моей лаборатории, является попытка преобразовать оставшиеся клетки сетчатки в псевдофоторецепторы, что соответствует началу моей работы. Для доставки генетического материала используется метод, который уже хорошо изучен: аденоассоциированные вирусы. Это безопасные вирусные векторы, применяемые во многих вакцинах, включая вакцины против COVID-19.
— Но наверняка и здесь есть проблемы?
— Этот вирус сам по себе не вызывает никаких проблем, однако обладает ограниченной емкостью. Структура, в которой содержится генетический материал, называется капсидом. Её объем невелик – всего 4,7 килобазы. Этого недостаточно, и это влечет за собой ряд негативных последствий: в капсид сложно ввести эффективную плазмиду, зачастую приходится использовать более компактный вариант, что не всегда желательно. Тем не менее, в капсид встраивается специальный белок, каналородопсин, который позволяет клеткам реагировать на свет. Это яркий пример научной прозорливости и интуиции. Его история началась в XIX веке, когда профессор Андрей Сергеевич Фаминцын из Санкт-Петербургского университета обнаружил у одноклеточной водоросли явление «положительного фототаксиса»: при освещении она движется к источнику света, а при очень интенсивном освещении – от него. Он не знал, как это происходит, но предположил, что для ориентации в пространстве необходим определенный механизм, иначе невозможно объяснить, как водоросль определяет направление движения.
— Значит, существует некий механизм, определяющий светочувствительность?
— Да. В 70-е годы XX века братья Олег и Виталий Синещековы в МГУ, под руководством профессора Феликса Федоровича Литвина, продемонстрировали, что воздействие света вызывает в этой водоросли генерацию электрического сигнала, что указывает на наличие белка-сенсора. В 2000-х годах этот белок-сенсор был идентифицирован и описан. Он получил название каналородопсин и стал первым белковым каналом, непосредственно управляемым светом. Этот белок содержит хромофорную группу, которая способна открывать или закрывать канал. Через несколько лет Карл Дейссерот в Стэнфорде (США) применил каналородопсин для контроля над нейронами, осознав потенциал этого инструмента для селективного управления нейронной активностью. С этого момента началась эра оптогенетики. Оптогенетика – это не только протезирование сетчатки, но и управление нейронами. Однако вскоре стало ясно, что можно не просто управлять нейронами, но и имплантировать их в нужные места, в частности, в сетчатку. Это произошло в 2006 году, и с тех пор число исследований на животных постоянно растет.
— В настоящее время результаты этих работ уже доступны и применяются на практике.
— Начиная с 2021 года, появились первые результаты применения на людях. В настоящее время проводится около пяти клинических испытаний, результаты двух из которых уже опубликованы и демонстрируют положительные результаты. В обоих случаях использовались различные каналородопсины. При этом, естественные каналородопсины, полученные из водорослей, давно не используются, так как они подвергаются генетической модификации для существенного улучшения их характеристик. Научное сообщество с большим интересом ожидает результатов следующих испытаний.
— Вы сами проводите какие-то испытания?
— Да. Но с этими каналородопсинами существует определенная проблема, схожая с проблемой, возникающей при использовании чипов, и она, скорее всего, не устранима. Дело в том, что один квант света активирует только один канал. В живой сетчатке, в палочке, один квант света посредством каскада фототрансдукции открывает тысячи каналов благодаря мощному биохимическому усилению. А здесь же – только один. Это означает, что для того чтобы спровоцировать клеточный ответ, требуется очень интенсивное освещение. Необходимо большое количество квантов, чтобы открыть множество каналородопсинов. Света, конечно, достаточно, но беспокоит состояние сетчатки, поскольку свет оказывает разрушающее воздействие. Он не только служит стимулом и источником информации, но и является причиной серьезных повреждений. Фактически мы работаем на пределе яркости, которая может привести к ожогу сетчатки. А сетчатка и так находится в нездоровом состоянии.
— Что же с этим делать?
— Пока ситуация неясна: при недостатке света мы ничего не видим, а при его избытке это опасно. Однако существует альтернативный подход. Можно использовать не каналородопсин, а другой светочувствительный белок, который, подобно палочке, запускал бы каскад биохимических реакций. При этом открывался бы не один канал, а сотни, а лучше — тысячи. Это позволило бы воссоздать функциональную палочку в клетке, где ее изначально не было. Для обеспечения работы системы необходимо добавить дополнительные компоненты. В результате мы получим усиление в 100 раз, то есть на два порядка. Это позволит понизить интенсивность света на два порядка, что существенно уменьшит его повреждающее воздействие. Именно этим сейчас и занимается моя лаборатория. Мы разрабатываем химерные белковые рецепторы на основе родопсинов и других белков, чтобы воссоздать подобную систему.
— Проводятся ли испытания ваших устройств на животных? Какие результаты этих испытаний?
— Безусловно, мы проводим испытания. Результаты неоднозначны. Разработана обширная серия химерных белков, эффективность которых различается. Прежде чем переходить к экспериментам на животных, мы осуществляем их предварительную оценку на клеточных моделях: упрощенные протоколы позволяют сразу исключать неэффективные варианты. Проблема при работе с животными заключается в том, что для оценки результатов инъекции требуется не менее месяца. Однако, хотелось бы получить результаты быстрее. Поэтому сначала проводится первичный скрининг на нескольких клеточных системах, отсеиваются заведомо неперспективные варианты, затем выбираются наиболее перспективные, проводится инъекция животному, и оценивается эффект. В конечном итоге, наша цель — применение у людей. Сопоставляя эти две методики – чипы и оптогенетику, можно заключить, что первая значительно дороже, поскольку в ней задействована команда высококвалифицированных хирургов-офтальмологов, и сама электроника не является бюджетной. Понятно, что при серийном производстве стоимость снизится, однако стоимость труда хирурга останется высокой. Поэтому это очень дорого.
— Возможны ли здесь лапароскопические операции? Имеется ли робот-хирург da Vinci не сможет так работать?
— Возможна коррекция цены, однако существенного снижения ожидать не стоит. Это всё равно хирургическая процедура. Главное преимущество оптогенетической технологии заключается в том, что она требует всего лишь одного инъекционного вмешательства. Безусловно, значительные ресурсы уже сейчас направляются на разработку плазмиды, оптимизацию вирусной системы и сопутствующие работы. Однако, после завершения этих этапов, для пациента потребуется лишь один укол в глаз.
— Тоже неприятно.
— Это, безусловно, неприятная процедура, однако один укол предпочтительнее полного хирургического вмешательства с последующей реконструцией глаза. Квалифицированная медсестра в офтальмологической клинике может выполнить эту манипуляцию, и при успехе технология может быть легко масштабирована для широкого применения.
— Ясно, что с возрастом население Земли стареет, и, соответственно, увеличивается число глазных болезней. Но можно ли утверждать, что офтальмологические заболевания затрагивают и детей, и молодых людей всё чаще? И если это так, то каковы факторы, вызывающие такую тенденцию?
— В глобальном масштабе информация доступна, однако данные по России мне неизвестны. Сложность заключается в том, что пигментный ретинит – заболевание, поражающее молодых людей. Оно обычно развивается в период юности или подростковом возрасте. Если у человека диагностирован данный недуг, то к 20 годам он может потерять зрение. Существует и заболевание, характерное для пожилых людей – макулодистрофия, которая связана с возрастными изменениями. Вопрос о генетических маркерах остается не до конца ясным – их наличие или отсутствие требует дальнейшего изучения. После 65 лет значительное число людей попадает в группу риска.
— Как вы думаете, почему? Что случилось с человечеством, что оно стало настолько слепым?
— Хотя я не могу сказать, что это происходит в интенсивном режиме, подобная ситуация характерна для всех генетических заболеваний. Сейчас мы можем спасать тех, кого раньше было невозможно вылечить, и, вероятно, именно это является причиной. В древности слепой человек практически не имел шансов на выживание, а в наши дни возможности значительно возросли. Интересно, что ВОЗ ведет реестр опасных и вызывающих опасения болезней. К опасным относятся сердечно-сосудистые заболевания, нейродегенеративные расстройства, инфекции и рак. А в списке вызывающих опасения болезней слепота стабильно занимает первое место, хотя она и не представляет угрозы для жизни.
— Но зачем такая жизнь?
— Именно.
— Какие действенные способы помогут предотвратить возникновение подобных состояний?
— К сожалению, не существует методов лечения генетических заболеваний. В настоящее время доступно лишь одно лекарство от пигментного ретинита. Препарат «Люкстурна» предназначен для лечения одного из генов, ответственных за три тысячи мутаций, и его парная инъекция стоит 850 тысяч долларов.
— А его не предоставляют бесплатно тем, кто в нем нуждается?
— Я не уверен в этом, но полагаю, что нет. В настоящее время разрабатываются новые решения, и мы обсуждаем их на семинарах. Есть основания полагать, что будут и другие варианты. Однако, основная сложность генной терапии заключается в том, что для каждого гена требуется индивидуальный препарат. Напомню, их насчитывается около трех тысяч. Безусловно, частота встречаемости генов различна, но тем не менее.
Более чем в половине случаев полной или неполной слепоты причинами являются заболевания, которые можно предотвратить или, при наличии доступа к современным медицинским технологиям, успешно вылечить. К ним относится глаукома, которая на начальных этапах развития поддается достаточно простому лечению, требующему контроля внутриглазного давления. К сожалению, на более поздних стадиях она практически не излечима. Также распространенной причиной является катаракта. Еще полвека назад диагноз катаракты был равносилен приговору, однако в настоящее время замена хрусталика стала обычной, рутинной процедурой.
— Каким образом образ жизни способен помочь в предотвращении заболеваний? К примеру, какие требования предъявляются к освещению?
— Мне неприятно посещать чужие участки. Это касается офтальмологов и специалистов по гигиене. Исходя из здравого смысла и работ выдающегося российского ученого, академика Михаила Аркадьевича Островского, изучающего вопросы возрастной макулодистрофии, следует по возможности сокращать воздействие света. При одинаковых условиях лучше находиться на солнце в темных очках. Избыток света нежелателен, необходимо обеспечить достаточное, но не чрезмерное освещение.
— Известный офтальмолог, академик Христо Периклович Тахчиди, советует всем людям фокусироваться на дальних объектах. По его словам, человеческий организм изначально предназначен для зрения на дальние расстояния, однако в настоящее время многие люди постоянно смотрят на близкие предметы, что приводит к развитию близорукости. Каково ваше мнение относительно этого?
— Да, это так. Однако мы не всегда придерживаемся этого простого совета. Кратковременное расслабление аккомодации, позволяющее взглянуть вдаль, снимая напряжение с хрусталика, безусловно, приносит пользу. И, конечно, профилактические меры всегда предпочтительнее передового лечения — это неоспоримый факт.