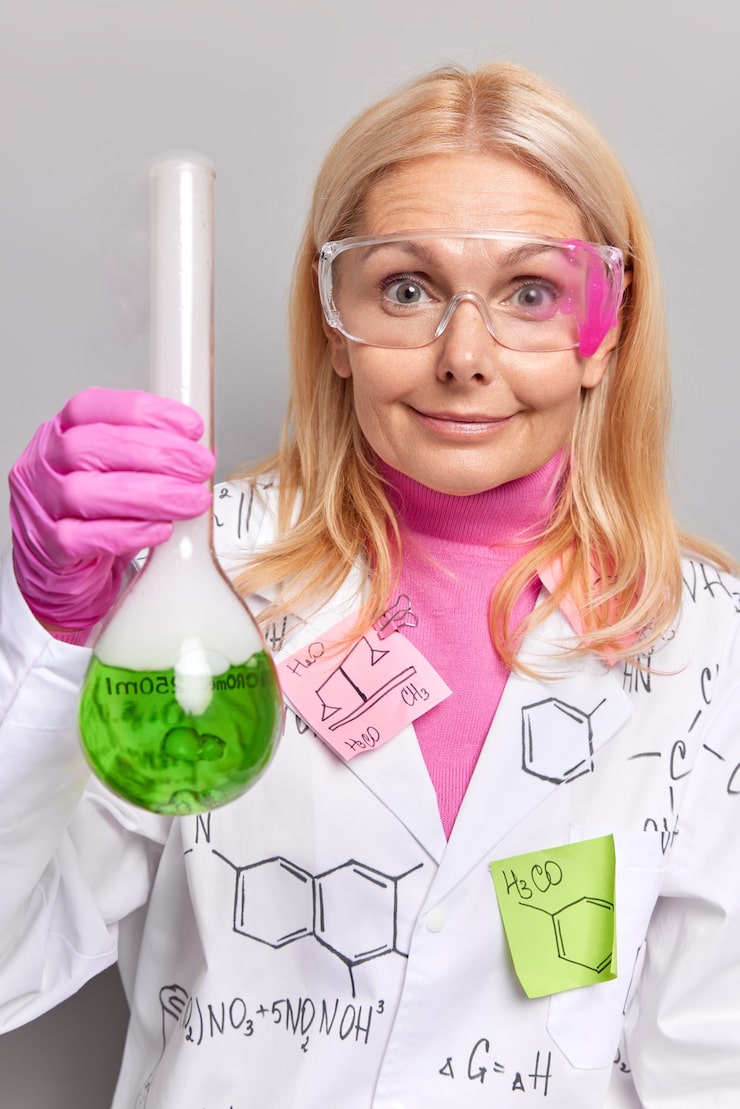Под новгородской землей скрыты следы жизни, торговли, политической власти и религиозных практик. Здесь археологические исследования давно вышли за рамки академической науки и стали методом восстановления исторической картины России. О чем повествуют найденные улицы, дома, грамоты, монеты и печати, и почему необходимо продолжать раскопки, рассказывает член-корреспондент РАН Петр Григорьевич Гайдуков, археолог, эксперт в области нумизматики и сфрагистики Древней Руси, заместитель директора Института археологии РАН.
— Что побудило вас выбрать археологию? Что привлекло вас в этой области? Какие вопросы вы надеялись найти ответы в ней? И как возник интерес к нумизматике?
— Первые шаги к увлечению коллекционированием обычно делаются в детстве. Интерес к систематизации закладывается, когда ребенок начинает собирать различные предметы: старые монеты, марки или спичечные этикетки. Любовь к археологии также часто берет свое начало в детстве, благодаря чтению увлекательных книг об археологах. После окончания школы в станице Ладожской, расположенной на Кубани, я поступил в Московский университет.
— Поступление на исторический факультет МГУ в то время представляло собой сложную задачу из-за высокой конкуренции.
— Несмотря на трудности, у меня был свой козырь — золотая медаль. Именно благодаря ей, я, школьник из сельской местности, не до конца готовый к поступлению, смог поступить в МГУ. Моей задачей было сдать всего один экзамен — историю — на отлично. Таковы были установленные требования.
— Выбор кафедры — это позже?
— Выбор кафедры отложили на более поздний срок. На историческом факультете специализация начиналась с третьего курса, первые два года были посвящены общеобразовательным дисциплинам. Уже на первом курсе я обращал внимание на кафедру археологии. Профессор этой кафедры, Даниил Антонович Авдусин, выдающийся педагог и опытный археолог, много лет проработавший в Смоленске и его окрестностях, проводил для первокурсников небольшие вводные занятия, которые оказались весьма информативными. После первого курса я отправился в свою первую археологическую экспедицию – в Гнездово под Смоленском – и там мне было очень интересно. Тогда я осознал, что это действительно мое призвание.
— Я заметил портрет Валентина Лаврентьевича Янина на вашей стене.
— Безусловно, это мой наставник. Личность Валентина Лаврентьевича Янина привлекала множество студентов, в том числе и меня. Кроме того, меня привлекала атмосфера демократизма на кафедре археологии. Валентина Лаврентьевича знали и уважали на историческом факультете МГУ. Он был человеком весьма демократичным, в общении со студентами особенно. Его лекции, беседы и научные работы притягивали к себе, как магнит.
— Новгород поэтому появился в вашей жизни?
— Вместе с В.Л. Яниным прибыл и Новгород. На третьем курсе я обратился к нему с просьбой принять меня в качестве ученика по русской нумизматике, и он согласился стать моим научным руководителем, предложив тему дипломной работы: «Медные русские монеты XV–XVI вв.». В то время эти монеты практически не привлекали внимания исследователей. Впоследствии изучение этой темы привело к защите кандидатской диссертации, которая после существенной доработки вошла в докторскую диссертацию. После окончания третьего курса, летом 1975 года, я отправился в Новгород для работы в Новгородской экспедиции. В этом году в июле я снова поеду в Новгород, что ознаменует 50-летний юбилей моего пребывания в этом замечательном городе.
— Вы помните свою первую экспедицию?
— Я хорошо помню детали экспедиции 1975 года. В.Л. Янин проводил все лето в Новгороде, если не было других срочных дел. Иногда он посещал Москву на конференции или другие мероприятия, но очень любил Новгород и работу Новгородской экспедиции, поэтому уезжал неохотно. Открытие новой грамоты или другие значимые находки стимулировали его творческий потенциал, он был поглощен этим, и это приносило ему вдохновение.
— А какое, по вашему мнению, было первым значимым открытием?
— Каждый год в Новгороде совершают множество открытий, однако первое из них всегда остается наиболее ярким и запоминающимся. В 1975 году, благодаря стечению обстоятельств, я оказался в Новгороде вместе со студентами археологической кафедры, которые были на курс младше меня. Там я познакомился с Николаем Андреевичем Макаровым, ныне директором Института археологии РАН, академиком и вице-президентом РАН. Если Николай Андреевич также сможет посетить Новгород летом, мы вместе отметим 50-летие нашей совместной работы в Новгородской экспедиции.
Мы тогда работали на Троицком-III раскопе, который был начат в 1975 г. и за один сезон завершен. И там, в слоях XI в., уже очень близких к материку, то есть к геологической поверхности, на которой поселились новгородцы, была найдена берестяная грамота № 526, где упоминается город Старая Русса. Эта грамота является одной из древнейших новгородских берестяных грамот, она была крупной и абсолютно целой, что встречается нечасто. Она содержала пространный текст с перечислением имен должников и денежных сумм, начинающийся словами: «На Бояне в Русе гривна…». Стратиграфическая датировка — 1080-е гг. Благодаря этой грамоте, Старая Русса была значительно «удревнена», поскольку ранее историки датировали появление этого города XII веком, опираясь на первое упоминание его в Новгородской летописи, относящееся к 1167 г. Для меня это стало мощным стимулом к осознанию того, что на раскопках в Новгороде, каждый день может произойти событие, способное уточнить и конкретизировать нашу отечественную историю.
— Как протекала ваша жизнь в экспедиции?
— Мы ежедневно работали на раскопе. Руководил раскопом Александр Степанович Хорошев, ученик Валентина Лаврентьевича Янина. В соответствии с традицией, заложенной еще учителем Валентином Лаврентьевичем – Артемием Владимировичем Арциховским, на базе археологической экспедиции до сих пор каждую пятницу вечером проводится неформальное собрание, куда приглашаются не только сотрудники экспедиции, но и все желающие. На таких лекциях иногда собирается до 50–60 человек. Валентин Лаврентьевич продолжил эту традицию, и она прочно утвердилась как экспедиционное правило. Эти собрания длятся не менее часа, иногда полтора-два часа. В течение этого времени рассказывают о событиях, происходивших на раскопе за неделю, и о наиболее значимых находках, которые находятся здесь и доступны для просмотра. Также проводятся чтения и комментирование новых берестяных грамот. Валентина Лаврентьевича особенно интересовали берестяные грамоты и сложный процесс расшифровки написанного в них текстов. Он был свидетелем находки первой берестяной грамоты в 1951 г. и считал это одним из самых ярких моментов в своей карьере. И в 2000 г., почти через 50 лет, на Троицком раскопе был найден Новгородский кодекс – это восковая книга, цера ( от лат. cera — «воск». — Примеч. ред.), состоящая из трех дощечек. На этих навощенных табличках отлично сохранились псалмы Давида. Это относится к первой четверти XI века. По оценке Валентина Лаврентьевича, хозяин церкви был человеком, который, вероятно, являлся непосредственным участником, свидетелем или учеником тех, кто принимал христианство и приносил письменность на Северную Русь. Для В.Л. Янина это стало вторым значительным достижением.
Новгород представляет собой поистине уникальное место: здесь сочетаются неповторимый ландшафт, архитектурные памятники и живопись на стенах храмов. Прогуливаясь по городу, осознаешь, что под тобой залегает до 3 метров культурного слоя, в Кремле – до 6 метров, в районе раскопа Троицкого – 5 метров, а в отдельных точках – даже 8 метров. Таким образом, под твоими ногами простирается тысячелетняя история великого города. Это бесценная сокровищница древностей, кладезь нашей русской истории, которая, вероятно, изучена и понята археологами лишь на 10%. Валентин Лаврентьевич отмечал, что Новгород является ключевым для нашего восприятия русской истории.
Средневековая Русь отличалась деревянным характером, в то время как в Западной Европе было широко распространено каменное строительство. Практически все постройки на Руси возводились из дерева. Там, где дерево преобладает, пожары происходили достаточно часто. В результате сгорала значительная часть города, жилые и хозяйственные постройки, деревянные церкви. Во время пожаров уничтожалось все имущество, книги, иконы… Однако, по мере накопления культурного слоя, нижние части построек, церквей, домов и улиц оказывались погребёнными под ним. То есть, они не погружались, а вокруг них, наоборот, формировался культурный слой. Все потерянные и выброшенные людьми предметы попадали в этот слой. Благодаря высокой влажности, ничего не разлагалось. Новгород уникален тем, что обладает таким мощным культурным слоем.
— Почему нет процессов разложения? При наличии влаги дерево, казалось бы, должно подвергаться гниению.
— Гниение представляет собой разрушение органических веществ под воздействием микроорганизмов. Для жизнедеятельности микробов, подобно человеку, необходимы благоприятные условия. Они не способны выживать ни в условиях полной сухости, например, в Аравийском полуострове, где обнаруживаются рукописи на папирусе, ни в полностью затопленных зонах. В обоих случаях отсутствует подходящая среда для микроорганизмов, потребляющих органику. В воде происходит коррозия металла, разрушение тканей, в то время как органика, такая как дерево, кожа и береста, сохраняется. Особенность Новгорода заключается в его расположении на ровной поверхности, на берегу озера Ильмень, где материком выступает плотная, непроницаемая глина.
— Наверное, там трудно копать.
— Добыча глины — непростой процесс. Однако её основное свойство — водонепроницаемость. Поэтому, когда первые поселенцы прибыли в Новгород, возвели свои первые дома и оставили после строительства щепки, началось формирование культурного слоя. Культурный слой представляет собой, по сути, отходы жизнедеятельности человека.
— И кто же были те первые поселенцы, прибывшие сюда?
— Археологические данные свидетельствуют о том, что новгородцы появились на этой территории в 30–40-е годы X века. Однако они не пришли на неосвоенную землю. Данное место – Приильменье, исток Волхова из Ильменя в Ладогу – было заселено людьми задолго до основания Новгорода. На берегу Ильменя уже располагались поселения. В полутора километрах от Новгорода находится Рюриково городище, которое являлось предшественником Новгорода. Место, расположенное в истоке Волхова, обладало стратегическим значением, поскольку находилось на водном пути «из варяг в греки» – протяженном маршруте, обеспечивавшем транспортировку товаров с Ближнего Востока и из Византии через Восточную Европу в Балтийский регион, в Западную Европу и Скандинавию.
— Означает ли это, что развитие этого города было предопределено его расположением?
— По мнению Валентина Лаврентьевича, Новгород образовался из нескольких небольших поселений. Изначально их насчитывалось два-три, впоследствии они объединились, сформировав единый город. Таким образом, это место имело огромное значение, было известным и ключевым. В чём заключалась важность Новгорода как для власти, так и для населения? В первую очередь, он контролировал торговые пути, что обеспечивало значительный доход. Во-вторых, Новгород являлся центром обширного государства, которое к XII веку достигло гигантских размеров. Это были северные земли и лесные владения, поставлявшие большое количество пушнины. Пушнина играла роль валюты в Средневековье, подобно современной нефти. На ней основывалось богатство Новгорода, который к XIV веку уже сам называл себя Великим Новгородом.
— Какая политическая система существовала в Новгороде? Почему, обладая значительным потенциалом, он не достиг такого же могущества, как Москва? И финал его истории оказался трагичным.
— Валентин Лаврентьевич характеризовал его как олигархическую республику, напоминающую своеобразное средневековье, где вся власть находилась в руках боярства. Боярство представляло собой высшую касту, высший социальный слой новгородского государства. Они владели обширными земельными угодьями на всей Новгородской земле, что обеспечивало им значительный доход. А финал… По всей видимости, автократическая Москва к середине XV века настолько усилилась и приобрела влияние, что без особых затруднений подчинила Новгород. В.Л. Янин полагал, что постоянные конфликты новгородских олигархов за контроль над властью привели к тому, что они не пользовались особой защитой, когда Иван III в 1478 году приблизился к Новгороду.
— А потом Иван Грозный…
— Новгород вошел в состав Московского государства при Иване Грозном. В противостоянии между аристократической демократией и верховной властью, демократические силы потерпели поражение. Победу одержали московские князья.
— Как развивались дальнейшие события в Новгороде? И А.Н. Радищев, и декабристы испытывали восхищение государственным строем Новгородской республики, считая его воплощением справедливости. Однако все изменилось.
— Впоследствии Новгород вошел в состав Московского государства. Новгородские бояре были выведены из Новгорода в «Низовские земли», согласно летописным сведениям. В настоящее время это территории Московской, Рязанской и Нижегородской областей. Продолжая дело Валентина Лаврентьевича, я изучаю русскую сфрагистику. И вот что представляет интерес: за последние годы в Рязанской и Нижегородской областях впервые зафиксированы находки новгородских печатей XV века. Можно предположить, что при переселении из Новгорода люди брали с собой документы, подтверждающие право собственности на землю и запечатанные свинцовыми печатями. Они надеялись когда-нибудь вернуться на родину и подтвердить свои права на прежние владения. Однако это не случилось: люди скончались, документы были утеряны, а свинцовые печати остались погребены в земле. Эти находки служат свидетельством указанного переселения. На место новгородцев прибыли московские купцы, и город был заселен выходцами из Москвы, но дух Новгорода продолжал жить. И сейчас, посетив Новгород, многие ощущают привкус новгородской независимости. Разгром Новгорода Иваном Грозным в 1570 году стал тяжелым потрясением.
Новгород XVI века и Новгород XVII века – это уже два разных города. После разгрома начался период Смуты. После Смутного времени — шведская оккупация города 1606–1612 гг. Писцовые книги того времени свидетельствуют, что после шведской оккупации города вообще больше нет. В нем почти не осталось жителей, фактически это уже пустыня. И весь XVII век — постепенное возрождение жизни Новгорода. Но былого величия он, конечно, не достиг. И культурный слой это подтверждает, его практически нет. XVIII век – это уже часть Российской империи, с градостроительной реформой 1770-х годов Екатерины II, в результате которой Новгород подвергся кардинальной перепланировке, которая, по сути, накрыла средневековые улицы и кривые переулки. Екатерининская перепланировка имеет радиальную структуру: все основные улицы сходятся к Кремлю, а на Торговой стороне – прямоугольная планировка. Это во многом способствовало сохранению культурного слоя Новгорода, поскольку каменное строительство с глубокими котлованами под фундаменты не охватило основные улицы. Сейчас мы накладываем один план на другой и видим, что каменное строительство повредило слой, накопившийся в период существования независимого Новгорода, но не катастрофически, как, например, в Москве.
— С какого времени археологи начали систематически изучать Новгород?
— Это начало работ Артемия Владимировича Арциховского. До Октябрьской революции в Новгороде проявлялся интерес к историческим древностям. Существовали собственные археологи и историки, а также Новгородское общество любителей древности, которое внесло значительный вклад в сохранение и описание, главным образом, письменных памятников и церковных древностей. Однако систематических раскопок в то время не проводилось, не существовало необходимых методик. В 1911 году Новгород посетил Николай Константинович Рерих, предпринявший попытку проведения раскопок на Новгородском детинце (Кремле), но не добившийся значительных результатов. Открытие археологического Новгорода и культурного слоя произошло уже в советский период. В 1932 году А.В. Арциховский начал в Новгороде первые раскопки, которые были сразу же высоко оценены. Уже в краткой публикации 1933 года о первых раскопках он отмечал, что Новгород обладает большим археологическим потенциалом и должен стать городом-памятником, где можно демонстрировать кварталы ремесленников и бояр. После войны А.В. Арциховский был настолько поражён разрушениями Новгорода, что некоторое время даже не хотел возобновлять здесь раскопки. Он знал и помнил небольшой и уютный довоенный Новгород, в котором проживало около 30 тысяч жителей. Он видел эти церкви и монастыри в окрестностях Новгорода, многие из которых были украшены фресками XIV века.
В 1947 году Артемий Владимирович вернулся в Новгород. В том же году Валентин Лаврентьевич Янин впервые приехал в Новгород в качестве студента и был им очарован. Он впоследствии отмечал, что эта первая поездка полностью определила его дальнейшую жизнь. 12 июля 1951 года экспедиция под руководством А.В. Арциховского приступила к работам на Неревском раскопе, расположенном к северу от Кремля. И уже через две недели, 26 июля, была обнаружена первая берестяная грамота, сохранившаяся в целости, с объемным текстом, содержащим ценные исторические сведения. Это ознаменовало появление нового типа письменных исторических источников. Неревский раскоп, охватывающий мощный семиметровый культурный слой, подтвердил прозорливость А.В. Арциховского, продемонстрировав, что Новгород представляет собой археологическое сокровище. Первые берестяные грамоты, улицы, вымощенные деревянными досками, отличающиеся прекрасной сохранностью, остатки строений, огромное количество артефактов – все это показало, что под нашими ногами фактически находится бытовая, материальная культура средневековой Руси в ее значительной полноте.
— Сейчас раскопки продолжаются?
— Благодаря впечатляющим открытиям 1951 года Новгородская археологическая экспедиция начала получать значительную поддержку со стороны государства. Помимо финансирования, она опиралась на усилия специалистов из трех учреждений: Академии наук СССР, Московского государственного университета и Новгородского государственного музея-заповедника. Каждое из этих учреждений вносило свой вклад в деятельность экспедиции. В Новгородской экспедиции был сформирован уникальный научный коллектив, и ежегодно работы проводились на раскопах, общая площадь которых достигала 1000 м².
Распад страны и значительное уменьшение финансирования научных исследований в 1990-е годы оказали существенное влияние на Новгородскую экспедицию. Экспедиция, в которой я вырос, прекратила свое существование и не будет возрождена. В период с 1990 по 2010 годы археологические работы в Новгороде во многом зависели от грантовой поддержки Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В настоящее время отсутствует бюджетное финансирование для проведения плановых археологических изысканий. В последние годы Новгородская экспедиция Московского государственного университета проводит работы на Троицком раскопе благодаря грантам фонда «История Отечества». Новгородская экспедиция Института археологии РАН не имеет постоянного бюджетного финансирования. Дирекция института эпизодически выделяет скромные средства на изучение 38-го квартала, где я веду исследования в последние годы. Однако это ограниченные ресурсы. В последние 20 лет изучение археологии Новгорода в основном определяется необходимостью проведения спасательных археологических работ. Город является крупным, областным и активно развивается, что требует постоянного муниципального и частного строительства. Поскольку культурный слой Новгорода охраняется государством и находится под охраной ЮНЕСКО, строительные работы в нем могут быть начаты только после проведения археологических исследований.
— Вы обещали рассказать о 38-м квартале.
— Квартал 38 расположен на Торговой стороне, неподалеку от Ярославова дворища. Здесь зафиксирован самый мощный культурный слой в Новгороде, и я давно проявлял к этому месту интерес. Раскопки проводились к северу, востоку, западу и югу от него. Однако, в самом квартале планомерные раскопки не осуществлялись, поскольку он сильно застроен. Внутри квартала находился Немецкий двор – торговая фактория ганзейских купцов в Новгороде, функционировавшая более четырех веков, с конца XII до начала XVII века. Это место упоминается в писцовой книге Новгорода конца XVI века как «двор Немецкие Ливонские земли». О существовании этого двора известно по большому количеству письменных свидетельств: официальных и частных писем, отправлявшихся немецкими купцами в Любек и Ревель (Таллин) их руководству и деловым партнерам. История иноземных дворов в Новгороде детально изучена Еленой Александровной Рыбиной, профессором кафедры археологии МГУ, ученицей Валентина Лаврентьевича Янина. Ее докторская диссертация посвящена данной теме. В Новгороде было два таких двора, древнейший из них – Готский – был основан уже в XI веке. Он располагался в южной части Славенского конца на берегу Волхова. В XII веке торговля расширилась настолько, что приносила выгоду как новгородцам, так и иностранцам, поэтому ганзейцы в конце XII века получили от Новгорода дополнительный участок земли для организации второй торговой фактории – Немецкого двора. Согласно писцовой книге, площадь двора составляла около 18 соток. Существует значительное количество письменных документов, касающихся организации этого двора. Достаточно упомянуть, что здесь действовал собственный свод правил или судебник – Скра ( Skra), это был свод правил, которым должны были руководствоваться все жители. Он известен в семи версиях, начиная с XIII века и до начала XVII века, когда двор перестал функционировать. С каждой редакцией количество параграфов в Скре росло, поскольку изменения и дополнения, диктуемые жизнью, требовали внесения. Уже по Скре можно понять, насколько насыщенной, сложной, интересной и интенсивной была жизнь на этой территории.
— Фактически окно в Европу.
— Безусловно. Центральным элементом этого двора является церковь Святого Петра. В исторических источниках он известен как Немецкий двор, а для немецкого населения – как двор Святого Петра. В конце XII столетия немцы возвели здесь готический храм. Напротив, через улицу, известную как Большая Пробойная, расположена церковь Иоанна Крестителя, принадлежащая новгородцам. Эти две церкви располагались друг напротив друга. При немецкой церкви служил священник, и сохранилось множество документов, касающихся её деятельности, например: «Церковь разрушается, необходим мастер», «Священник покинул нас из-за отсутствия средств к существованию», «Нужен священник». Русскому разрешалось посещать территорию двора лишь в установленное время и в обязательном сопровождении делового партнера. Привезенные товары преимущественно складировались в церкви. Каждую ночь церковь закрывали, и при ней находились два сторожа – внутри и снаружи.
В XIV веке наступил период расцвета торговли, и Новгород привлекал большое количество купцов. Они приезжали вахтовым порядком — дважды в год. Зимние гости преодолевали путь на санях по дорогам и рекам, следуя из Любека в Таллин, из Таллина в Тарту, из Тарту в Псков, и, наконец, в Новгород. Их число было меньше, и объем привозимых ими товаров был скромнее. Летом, с началом навигации, купцы плыли по Балтийскому морю, мимо Котлина, впадали в Неву, где впоследствии возник Петербург, затем в Ладожское озеро, из Ладожского озера в Волхов до деревни Гостинополье. А дальше — стоп.
Мне всегда было интересно узнать, что представляет собой Немецкий двор и где он расположен. В 2020 году началось археологическое изучение 38-го квартала, а в 2022 году мы начали совместную экспедицию с Новгородским музеем и Новгородским университетом. В первый год удалось более точно определить расположение всех улиц, а во второй год, увеличив шурф до раскопа, нам посчастливилось попасть непосредственно на территорию Немецкого двора. В 2022 году был раскопан небольшой участок площадью 70 м², но на глубину до 8 метров. Нам очень повезло обнаружить участок двора, который граничит со средневековой улицей. Также оказалось удачным то, что мы попали на место, где был организован въезд на Немецкий двор. Мы изучили несколько построек, расположенных внутри этого двора, и собрали огромное количество артефактов — 3,5 тысячи. По концентрации находок это как минимум в пять раз превышает любую из богатейших усадеб новгородских бояр, исследованных археологами. Причиной такого обилия находок является высокая плотность проживания. Около трети этих предметов имеют западноевропейское происхождение: это разбитая глиняная и сломанная деревянная столовая посуда, пряжки, кольца, перстни, разнообразные паломнические жетоны. При исследовании древнейших слоев Немецкого двора для нас стало настоящей находкой обнаружение четырех предметов с руническими надписями: два из них — на кости, а два — на дереве. В Новгороде подобная находка была сделана лишь однажды, в 1956 году на Неревском раскопе в слое XI века — это было ребро свиньи с руническим алфавитом, известным как футарк. С 1956 по 2022 год подобных находок не было. А здесь мы обнаружили сразу четыре, а позже в коллекции, среди более поздних деревянных находок, была найдена еще одна, пятая. Это свидетельствует о том, что первопоселенцы, пришедшие сюда, владели этой письменностью. Вероятно, скандинавские алфавиты (футарки) обладали и магическим значением. В слоях Немецкого двора было раскопано шесть или семь последовательно сменявших друг друга дворовых вымосток, ведущих от въезда вглубь двора, а также остатки воротных конструкций. В слоях первой половины XII века резко меняется планировка построек, исчезают мостовые, постройки меняют свою ориентацию. Количество находок сразу уменьшается в пять раз. Исчезают предметы западноевропейского облика. И последние 1,5 метра культурного слоя представляют собой обычные новгородские находки.
Археологические находки подтвердили информацию из письменных источников, касающуюся организации этой территории как иноземного двора в конце XII века. Кроме того, удалось уточнить время его появления. Датировка древнейших построек, вблизи которых были найдены предметы с руническими надписями, составила 1170-е годы. Это на 20 лет отодвигает датировку возникновения в Новгороде второй иноземной торговой фактории. Это тоже имеет значение.
— Страшно представить, что во время разгромов Ивана III и Ивана Грозного случилось с этими купцами…
— Иван III в 1494 году закрыл этот двор и арестовал ганзейских купцов вместе с их товарами. И до этого у немцев там было немало проблем. Двор несколько раз полностью уничтожался пожарами. Как уже упоминалось, пожары являлись самым серьезным бедствием для любого древнерусского города. Летописи свидетельствуют о том, что эти пожары были настолько разрушительными, что иногда выгорала половина города, а порой и весь город. Волхов был узким и загроможден лодками и плотами, что позволяло огню, подгоняемому сильным ветром, перекидываться с одного берега на другой во время пожаров. Пожар, начавшийся, например, на Софийской стороне, из-за сильного ветра мог распространиться и выжечь еще часть города. Немцы также сильно страдали от этих бедствий, что хорошо задокументировано в их переписке. Они писали прошения о предоставлении средств на строительство новой изгороди и домов. Однако, очевидно, что эта торговля была настолько прибыльной, что вновь прибывающие купцы возобновляли торговлю. Вот такая интересная глава в истории этого великого города.
— Предусмотрены ли какие-либо мероприятия на территории Немецкого двора?
— В настоящее время наблюдается весьма позитивная ситуация. В 2023 году были проведены работы по раскопкам улицы, примыкающей к Немецкому двору. В 2024 году раскопки были расширены в южном направлении, и в настоящее время изучается кладбище при церкви Иоанна Крестителя, построенной в середине XIV века. Прошлый год был посвящен изучению этого кладбища. В ходе работ были обнаружены слои, относящиеся к XVI, XV и XIV векам. Сейчас ведутся работы в слоях рубежа XIII–XIV веков. Это представляет собой значительное событие, поскольку подобное кладбище изучается впервые для Новгорода. В настоящее время извлекаются останки новгородцев. Помимо антропологических исследований, планируется проведение генетических.
Одно из зданий, непосредственно граничащее с нашим раскопом, представляет собой старую котельную. В настоящее время она не эксплуатируется и подлежит демонтажу. Я надеюсь, что на ее месте археологам будет предоставлена возможность проведения масштабных раскопок, которые станут продолжением нашего небольшого раскопа. Наиболее важным является то, что участок земли, на котором мы работаем, передан Новгородскому государственному университету. Университет планирует разместить рядом с раскопом стеклянный экспозиционный павильон. В этом павильоне мы сможем представить находки, полученные непосредственно здесь. Любой археолог мечтает (кроме того, чтобы что-то раскопать, изучить и опубликовать) о возможности экспонировать на музейных площадках и демонстрировать людям результаты своего труда. Поэтому перспективы выглядят многообещающими и представляются весьма интересными.