Эволюционную физиологию изучает член-корреспондент РАН Михаил Леонидович Фирсов, директор Института. эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН.
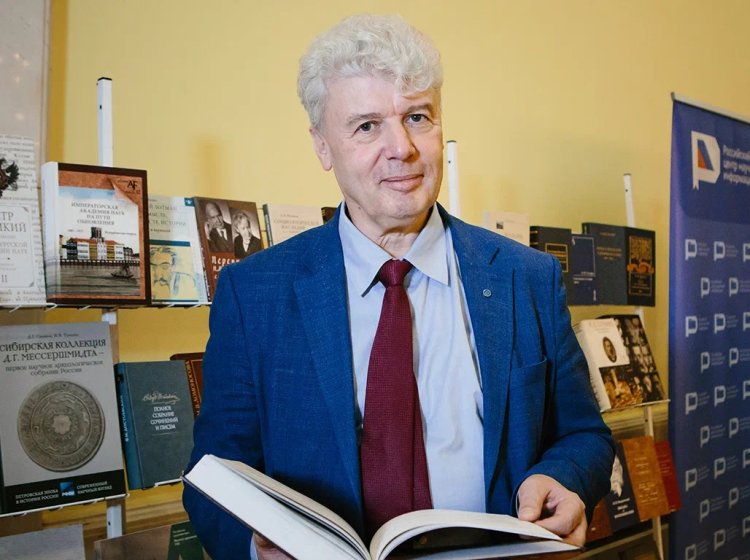
Михаил Леонидович Фирсов. Ольга Мерзлякова, фотография. Научная Россия.
Фирсов Михаил Леонидович Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН. Специалист в области физиологии сенсорных систем, исследователь молекулярных механизмов работы сенсорных каскадов. Ученый открыл несколько новых регулирующих механизмов в каскаде фототрансдукции позвоночных, описал процесс темновой адаптации фоторецепторов позвоночных и установил, что темновая адаптация подразделяется на обратную световую и собственно темновую. Предложена математическая модель процесса темновой адаптации, разрабатывается технология оптогенетического протезирования биполярных клеток сетчатки.
В последнее время выяснилось, что в нашей стране преследования испытывали не только генетику и кибернетику, но и физиологию. Что произошло с вашим институтом во время этих событий?
Л.А. Орбели не подвергся репрессиям полностью, но потерял практически все должности. До этого он руководил Институтом физиологии, был начальником Военно-медицинской академии. В итоге у него осталось небольшое число сотрудников, люди, связанные с ним не столько службой, сколько лично. Верные ученикам, сохранившие верность учителю. Он остался академиком, потому что прецедента лишения академического звания в нашей стране по-моему, ещё не было ни при каких обстоятельствах, и генерал-полковником медицинской службы в отставке.
— Как Орбели все это пережил?
Конечно, для него это был самый тяжелый удар. Думаю, что, может быть, даже не из-за административного низвержения. Главное — предательство близких людей. Это оказало на него сильное воздействие. А дальше события развивались так: умирает Сталин, и спустя год Орбели разрешают создать лабораторию, отношение к нему кардинально изменилось. Возвращается понимание, какого уровня этот человек. Вернее, возвращаются во власть люди, которые могли это понимание реализовать во что-то действенное. Ему дали возможность создать лабораторию. И тут наступает очень интересный этап, потому что к тому времени ему уже больше 70 лет, прошлые события не способствовали его здоровью. И он понимает, что дается последний шанс. Он думал, на что употребить оставшееся время и силы. И решает заняться эволюционной физиологией.
— Почему именно ею?
Эта тема занимала его всю жизнь, с раннего возраста, когда проходил стажировку в Италии на биостанции. Его биографы так считают: увиденное им разнообразие средиземноморских морских обитателей совпало с мировым всплеском интереса к эволюционному аспекту физиологии и возникновению тех или иных функций. Он этим заразился.
Был он действующим офицером Военно-медицинской академии, ещё императорской. Командировка была короткой, времени посвящать этому не мог. Потом — Первая мировая война, потом революция, всё время было не до этого. Но, видимо, всегда держал это в голове. Когда умер академик И.П. Павлов, Л.А. Орбели стал его преемником и встал во главе советской физиологии. Создал в 1939 году Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности. Думаю, что успешно развил бы направление эволюционной физиологии уже тогда, но потом была война, всем стало не до института, и он закрылся. В войну Л.А. Орбели занимался практическим применением физиологических знаний для лечения раненых, гипербарической физиологией, глубоководными погружениями и т.д. Очень много исследовал высшую нервную деятельность и в итоге выбрал эволюционную физиологию.
— Сначала это была лаборатория?
— Да. В январе 1956 года правительство выпускает распоряжение о создании института. Следующий год — юбилей 70-летия. Орбели собирает ещё лаборатории, названия которых содержат слово «эволюционная». Хотя, конечно же, эволюционный подход был и тогда сильным и продуктивным. Просто тогда его дополняло меньше современных подходов. Сейчас доля эволюционной тематики в нашем институте существенно меньше, чем во времена Л.А. Орбели. Но мы не забываем историю, происхождение и причины нашего интереса к эволюционному подходу в физиологии.
В вашем институте представлено множество научно-исследовательских направлений, в том числе изучение нейродегенеративных заболеваний и поиск новых подходов к их лечению. Хотел бы узнать о научном направлении, которое вам интересно как ученому — физиологии сетчатки.
Всю научную жизнь я провел в этом институте, за исключением кратких командировок на зарубежные постдоки. Первым организатором лаборатории, которую возглавляю сейчас, был Яков Абрамович Винников — замечательный морфолог, приглашенный Л.А. Орбели. Это была лаборатория эволюционной морфологии. Сначала она изучала периферическую сенсорную систему всех модальностей: рецепторы на клеточном уровне — слуховые механорецепторы (слух, равновесие), хеморецепторы (вкус, обоняние, феромоны) и фоторецепторы позвоночных и беспозвоночных. Для изучения структуры клеток уже тогда имелись хорошие электронные микроскопы. Единственная проблема состояла в том, что нынешние электронные микроскопы более компактные, чем раньше. Ранее это был целый маленький завод с лабораторией, мощными компрессорами для создания вакуума, обслуживаемыми инженерами.
В 1970-е гг. в лабораторию были приглашены два потрясающих человека — почти ровесники, выпускники ЛЭТИ, чистые инженеры. Занявшись обслуживанием электронного микроскопа, они заинтересовались тематикой и стали морфологами, а потом биологами-физиологами широкого спектра интересов. Оба стали докторами наук, защитили диссертации в этой же лаборатории и последовательно стали заведующими. Это Феликс Гурьевич Грибакин, при котором я пришел в лабораторию, и его друг и коллега Виктор Исаевич Говардовский, которого я считаю своим учителем. Всю жизнь я проработал с ним до его гибели от ковида в 2020 г.
— Именно они и создали лабораторию?
Да, в таком современном виде, как она есть сейчас. Я возглавил лабораторию в 2013 году. Сначала при Я.А. Винникове она была чисто морфологической и занималась широким спектром объектов, но постепенно у людей возник вопрос о том, как это всё работает. Произошёл переход от структуры к функции. Начались исследования электрофизиологии, создание установок. Постепенно от ширины объектов мы пришли к широте методик. У нас практически монотематическая лаборатория, занимающаяся физиологией зрения позвоночных, сетчаткой, но множеством разных методов. У нас остались морфология и электрофизиология на уровне одиночной клетки, изолированной сетчатки, на уровне целого животного, включая поведение. Все знают, что сетчатка состоит из палочек и колбочек. Мы изучали и продолжаем изучать каскад фототрансдукции. Это внутриклеточный мощный и очень сложный биохимический каскад, позволяющий клетке генерировать электрический ответ и видеть отдельные кванты.
— Это чисто фундаментальная работа?
— Да, так и было, но лет девять назад мы поделились с шефом мнением о том, что появляется все больше работ, преследующих благую цель. Есть тяжелые генетически обусловленные заболевания сетчатки, которые не лечатся. При них сетчатка погибает. Это врожденный генетический дефект. Одна из самых тяжелых болезней — пигментный ретинит, это больше 3 тыс. мутаций в 60 с лишним генах. Палочки и колбочки гибнут. Патология хорошо диагностируются, но лекарств нет никакого.
У людей появилась идея: восстановить в оставшихся клетках сетчатки систему восприятия света, подобную тому, что у нас есть в палочках и колбочках. Сетчатка трехслойная: первый слой — фоторецепторы (погибшие), а второй и третий — обрабатывают сигналы. Эти клетки света не чувствуют, пигмента для его восприятия нет. Предложили туда вставить пигмент или что-то подобное, чтобы они стали «видеть». Глобальная идея: помимо научного интереса, есть ещё тщеславный интерес – быть чуть ли не создателем собственной системы зрения. Звучит самонадеянно.
Люди научились протезировать слуховые аппараты и освоили кохлеарную имплантацию. С зрением труднее, но уже есть немалые достижения в создании устройств, возвращающих людям зрение. Какие существуют успехи в этом направлении?

Михаил Леонидович Фирсов. Ольга Мерзлякова, фото. / Научная Россия.
В протезировании сетчатки два основных направления, возникших около начала 2000-х годов. Одно из них быстро развилось, а затем утратило популярность, второе же сейчас активно прогрессирует.
Первым является чиповое, электронное протезирование. Первые чипы были разработаны в 2004–2005 гг., испытаны на животных, после чего произошел стремительный рост. Несколько хороших стартапов превратились в компании. Две из них получили одобрение национальных регуляторов США и Европейской комиссии. Это американская компания… Second SightПротез назвали «Аргус-2», а европейский – немецкий. AplhaДве фирмы разработали чипы, установленные нескольким сотням больных.
— В том числе и в России.
Да, строение немного разное, но суть одна: матрица электродов лежит на поврежденной сетчатке и снова запускает процесс возбуждения. В большинстве случаев результат протезирования был хорошим: люди начинали различать крупные предметы, их контуры, многие могли читать крупные буквы.
— Узнавали себя в зеркале!
Полностью согласен. Видимый предмет помогает ориентироваться в пространстве, значительно снижая инвалидность. Это был огромный прорыв, но с одним исключением: протезы не вечны. К сожалению, протезы зарастают глиальными клетками.
С момента рождения нас предупреждают о конечности нашего бытия, но продолжительность жизни увеличивается. Возможно, в будущем с развитием технологий этот период осознанности станет ещё длиннее?
Обе компании, провдя несколько сотен успешных имплантаций без заметных осложнений в 2018 году почти одновременно прекратили деятельность. Причинами послужили: чрезмерная регламентация процесса и высокая стоимость процедуры — более $100 тыс. Рынок не сформировался из-за этого. Не модель протеза была ошибной, а бизнес-модель.
— Но эта работа продолжается?
Сейчас существует множество стартапов и научных групп, которые публикуют проекты новых чипов и матриц, испытываемых на животных. Я уверен, что эта практика вернется с новыми правилами.
Второе направление работы моей лаборатории — попытка превратить оставшиеся клетки сетчатки в псевдофоторецепторы, с того, с чего я и начал. Метод доставки хорошо известен: при помощи аденоассоциированных вирусов. Это безопасный вирус, на котором работают многие вакцины, включая ковидные.
— Но наверняка и здесь есть проблемы?
— Вирус сам по себе никаких проблем не создаёт, но его емкость мала. Головка, где всё располагается, называется капсидом. Её объём небольшой — 4,7 килобазы. Это немного. В результате появляются ряд негативных последствий: ввести туда крупную плазмиду нельзя, приходится вводить компактную, а это не всегда одно и то же. Но мы помещаем туда специальный белок — каналородопсина. Он позволяет клеткам видеть. Это потрясающий пример научного предвидения и чутья. Его история началась в XIX веке. Профессор Андрей Сергеевич Фаминцын из Санкт-Петербургского университета открыл то, что называется «положительным фототаксисом» в маленькой одноклеточной водоросли: если её осветить, она плывёт к свету. Если очень сильно освещать, то она плывёт от света. Он не знал механизма, но понял: раз плывёт, то как-то ориентируется, иначе непонятно — как она угадывает, куда двигаться.
— Так получается, что есть некий механизм восприятия света?
В 1970-х годах ХХ века братья Олег и Виталий Синещековы под руководством профессора Феликса Федоровича Литвина продемонстрировали в МГУ, что водоросль генерирует электрический сигнал при воздействии света, указывая на наличие белка-сенсора. В 2000-х годах этот белок был найден и изучен. Названный каналородопсином, он стал первым белком-каналом, управляемым светом напрямую. У него есть хромоформная группа, способная открывать или закрывать канал. Через два-три года Карл Дейссерот из Стэнфорда (США) применил каналородопсин для управления нейронами, осознав его потенциал как инструмента для селективного управления нервными клетками. С этого момента началась эра оптогенетики – не только управления нейронами, но и их имплантации в сетчатку глаза, что осуществили в 2006 году. С тех пор количество исследований с участием животных неуклонно растет.
— На данный момент результаты этой работы видны на людях.
С 2021 года появились первые результаты тестирования на людях. Проводятся примерно пять клинических испытаний, результаты двух из них опубликованы и оба положительные. В обоих случаях использовались разные виды каналородопсинов. Долгое время не применялся естественный каналородопсин из водорослей, его качество существенно улучшили с помощью генной модификации. Научное сообщество с нетерпением ждет результатов следующих испытаний.
— Вы сами проводите какие-то испытания?
— Да. Но у каналородопсинов есть одна проблема, как и у чипов, довольно неизбывная. Проблема в том, что один квант света открывает один канал. Палочка в живой сетчатке с помощью каскада фототрансдукции открывает тысячи каналов из-за мощного биохимического усиления. А тут только один. Это приводит к тому, что для клеточного ответа нужно светить очень ярким светом.
Много квантов требуется, чтобы они открыли много каналородопсина. Света нам не жалко, но жалко сетчатку, потому что свет — повреждающий агент. Он не только стимул и источник информации, он ещё и мощнейший разрушитель. Фактически мы работаем на грани яркости, которая просто сжигает сетчатку. А сетчатка и так нездорова.
— Что же с этим делать?
Пока неясно, как решить проблему. Мало света — ничего не видно, много света — вредно. Но есть третий вариант: использовать другой светочувствительный белок, который запускал бы реакции, подобные тем, что происходят в палочке глаза. Открылись бы не один канал, а сотни, лучше тысячи. Так можно будет воссоздать палочку в клетке, где её нет. Добавим ещё элементы, чтобы система работала. Тогда получим усиление раз в 100, и снизим интенсивность света на два порядка, уменьшив тем самым его вредное воздействие. Сейчас моя лаборатория занимается этим: создаются химерные белковые рецепторы на основе родопсинов и других белков, которые позволили бы воссоздать такую систему.
— Проверяете ли вы работу своих устройств на животных? Каково полученное вами результата?
Конечно, испытываем. Результат меняется. Создали линейку химерных белков. Одни работают лучше, другие — хуже. Перед испытаниями на животных проводится скрининг на клеточных системах: простые схемы отсекают то, что гарантированно не работает. С животными проблема в том, что результат инъекции нужно ждать не менее месяца. Хочется быстрее. Поэтому сначала скрининг на нескольких клеточных системах, отсеиваются неудачные варианты, потом берутся лучшие, делается инъекция животному, смотрим. В конце концов ставится цель — выйти на человека. При сравнении двух методик — чипов и оптогенетики — вывод такой: первая очень дорогая из-за бригады опытных хирургов-офтальмологов и не дешевой электроники. Массовое производство сделает ее дешевле, но труд хирурга всегда будет дорогим. Поэтому это очень дорого.
— А лапароскопия здесь недоступна? Может быть, какой-нибудь робот? da Vinci не сможет так работать?
Стоимость может снизиться, но не существенно. Всё равно операция. Особенность оптогенетики в том, что достаточно одного укола. Конечно, большие усилия тратятся на создание плазмиды, оптимизацию вируса и так далее, но когда всё готово, для пациента это один внутриглазной укол.
— Тоже неприятно.
Это неприятно, но один укол — лучшее решение, чем операция по разбору глаза с последующей ушиванием. Такую процедуру может провести квалифицированная медсестра в офтальмологической клинике, и её легко повторить многократно. В случае успеха это станет массовой технологией.
Понимая рост числа болезней глаз с возрастом населения, можно ли утверждать, что количество офтальмологических заболеваний увеличивается среди детей и молодежи? Если да, то какие причины этому?
— В мире данные имеются, но по России мне недоступны. Трудность в том, что пигментный ретинит — это болезнь молодых людей. Проявляется он в юношеском или подростковом возрасте. Если человек болеет, то к двадцати годам слепнется. Есть болезнь пожилых людей — макулодистрофия, которая обусловлена возрастом. Генетические маркеры не очень понятны – есть их или нет. После шестидесяти пяти лет довольно много людей в группе риска.
— Что случилось с людьми, почему все так быстро теряют зрение?
— Не скажу, что интенсивно, но это касается всех генетических заболеваний. Мы можем выхаживать тех, кого раньше не могли: скорее всего, в этом дело. Слепой человек в прошлом не имел шансов, а сейчас имеет. Хотя есть интересная статистика: ВОЗ ведёт реестр опасных и опасаемых болезней. Опасные — понятно: сердечно-сосудистые, нейродегенерация, инфекционные заболевания, рак. А среди опасаемых болезней устойчиво на первом месте стоит слепота, хотя она не несёт никакой угрозы для жизни.
— Но зачем такая жизнь?
— Именно.
Как можно предотвратить такие ситуации?
Генетические болезни по-прежнему остаются неизлечимыми. Пока существует лишь одно лекарство от пигментного ретинита – «Люкстурна». Стоимость парной инъекции этого лекарства, которое эффективно против одного из генов, составляет $850 тыс., а таких мутаций насчитывается три тысячи.
— А его не предоставляют бесплатно тем, кто в нем нуждается?
Не уверен точно, но считаю, что нет. Разрабатываются новые методы, об этом говорят на семинарах. Есть надежда, что появятся и другие. Но сложность генной терапии в том, что для каждого из трёх тысяч генов нужно отдельное лекарство. Встречаются они с разной частотой, но всё равно.
Более половины причин полной или частичной слепоты связаны с болезнями, которые можно предотвратить или вылечить с помощью современной медицины. К таким заболеваниям относятся глаукома и катаракта. Гляукому возможно излечить на ранних стадиях при контроле внутриглазного давления. На поздних этапах лечение почти неэффективно. Катаракту, ранее представлявшую собой приговор, сейчас лечат путем замены хрусталика – операции стали рутинными.
Чем образ жизни человека может способствовать профилактике подобных болезней? Каким должно быть освещение для этого?
Я крайне неохотно ступаю на чужую поляну. Этим занимаются офтальмологи и врачи-гигиенисты. Основываясь на разуме и трудах выдающегося российского ученого академика Михаила Аркадьевича Островского, исследующего возрастную макулодистрофию, могу сказать: минимизируйте световое воздействие. На солнце носите темные очки при равных условиях. Слишком много света — это не лучшим образом скажется на вас. Достаточно света, но не в избытке.
Известный офтальмолог академик Христо Периклович Тахчиди советует всем чаще смотреть вдаль, так как человек биологически предназначен для этого. Он полагает, что сейчас мы все смотрим слишком близко и из-за этого развивается близорукость.
Верно. Однако мы не всегда выполняем это простое правило. Отдых загруженному хрусталику и краткий взгляд вдаль способны расслабить всю систему аккомодации, что полезно. Профилактика всегда лучше любого лечения — с этим трудно спорить.