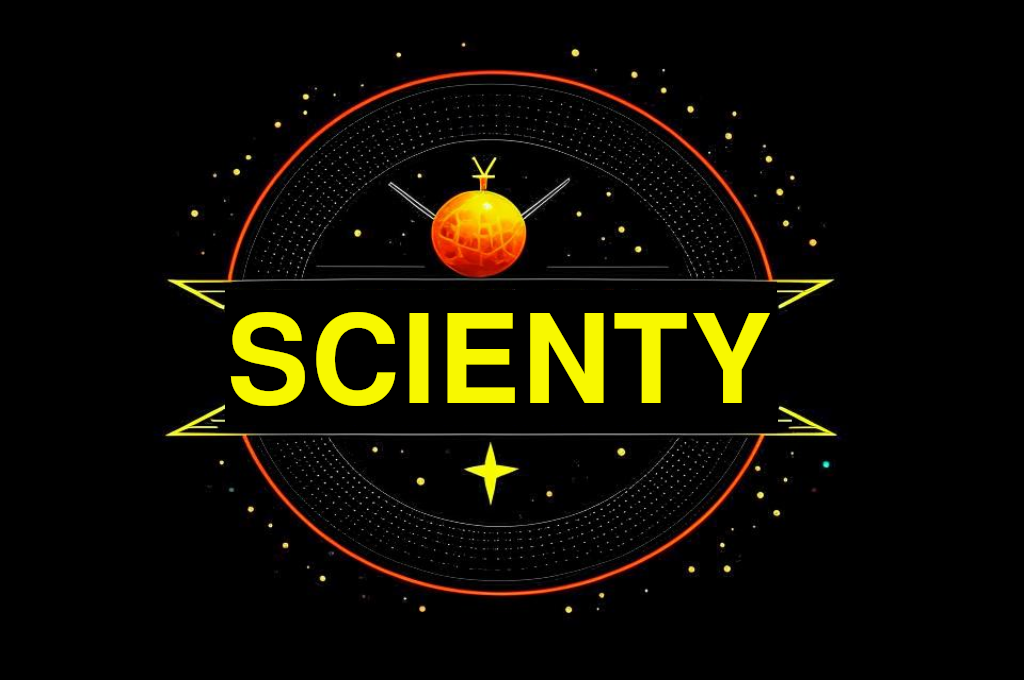Как возник Институт молекулярной биологии — «первый молекулярный»? Какие задачи перед ним стояли в те годы? А какие стоят сейчас, спустя 65 лет? Об этом рассказывает академик София Георгиевна Георгиева, директор Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.

София Георгиевна Георгиева. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
София Георгиевна Георгиева — биолог, вирусолог, доктор биологических наук, академик РАН, директор Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН. Специалист в области исследования регуляции экспрессии генов у высших эукариот, в том числе ранее не изученных факторов регуляции. Автор более 100 научных работ, из них 2 патентов. Ведет активную работу по подготовке кадров высшей квалификации. Действительный член Европейской академии наук, член редколлегии журнала «Молекулярная биология». Лауреат премии имени Н.К. Кольцова РАН.
— Институту молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта недавно исполнилось 65 лет, и основал его сам Владимир Александрович Энгельгардт, выдающийся ученый, академик, который считается отцом современной биологии в России. Давайте скажем несколько слов об Энгельгардте и о самом институте — в связи с чем он появился, какие перед ним тогда стояли задачи?
— В этом году не только 65 лет образования института, но и 130 лет со дня рождения Владимира Александровича Энгельгардта. Институт был организован при большой поддержке наших ведущих физиков, которые понимали, что надо развивать молекулярную биологию. Однако на дворе стоял конец эпохи Лысенко, который был против такой науки, говоря, что молекулы неживые, а биология — это живое. Институт все же удалось открыть, но под другим названием: Институт радиационной и физико-химической биологии АН СССР. Владимир Александрович действительно был выдающимся ученым — у него два открытия, полностью достойные Нобелевской премии.
— А что это за открытия?
— Окислительное фосфорилирование и ферментативная активность миозина. Владимир Александрович был яркой фигурой, к нему относились очень уважительно, поэтому ему позволили организовать институт. В этом же здании был открыт Институт биоорганической химии под руководством М.М. Шемякина. Я много слышала о Владимире Александровиче. Я его застала, к сожалению, уже в конце его жизни. Как он сам говорил, при нем в институте была просвещенная монархия.
— Что это значит?
— С одной стороны, он сам принимал наиболее важные решения. С другой — был очень демократичен, любил капустники, на которых часто высмеивали как его самого, так и других сотрудников института, причем очень жестко. Он был высокообразован, аристократичен, интеллигентен. При этом вписывался в жизнь: он был политик, стратег, очень любил свой институт, старался руководить, часто жертвуя своими интересами. Очень любил науку. Рассказывали, что перед тем как приходить к нему с какой-то административной просьбой, например о выделении помещения, надо было с ним сначала поговорить о науке. Если приходить просто с практическими вещами, он никакого интереса не проявлял. Наука была для него очень важна.
— Какие самые крупные открытия были сделаны за эти годы в стенах института?
— В.А. Энгельгардт пригласил работать в институт химиков, физиков и биологов. Он считал, что современная биология должна развиваться на базе сотрудничества этих трех направлений. Поскольку я молекулярный биолог, могу сказать о работах, связанных с биологией. И здесь мне ближе всего направление, которое здесь представляла лаборатория Георгия Павловича.
— Поясним: Георгий Павлович Георгиев — ваш папа, академик, тоже выдающийся ученый, на которого ссылаются все современные молекулярные биологи.
— Но тут дело даже не в том, что это мой папа. Я считаю, очень важным было открытие предшественника мРНК (пре-мРНК), когда было показано, что существует класс мРНК, который, полностью соответствуя гену, считывается, а потом укорачивается. Потом было показано, что после синтеза из молекулы мРНК удаляются отдельные фрагменты, в результате чего образуются функционально активные молекулы мРНК. Это базовое явление характерно для основной части генов ДНК-кодирующих генов высших эукариот и называется «сплайсинг».
Потом было открытие мобильных элементов у животных. Там, в лаборатории отца, впервые у нас в Союзе Николаем Андреевичем Чуриковым были начаты генная инженерия и технология клонирования. Это вся молекулярная база, которая потом стала играть огромную роль. Там же в лаборатории началось генотипирование, которое сейчас развилось в огромное направление. Тогда это делали по-другому: определяли индивидуальный набор повторов. Сейчас технологии пошли далеко вперед. Там же был впервые клонирован основной опухолевый супрессор р53, за который потом Петр Михайлович Чумаков получил госпремию…
— Плакат с поздравлениями Петру Михайловичу — первое, что видишь, заходя в ваш институт.
— Да, это выдающиеся работы. П.М. Чумаков уже давно руководит собственной лабораторией. Или лаборатория Ю.В. Ильина — первая, которая выделилась из лаборатории Г.П. Георгиева. Там были открыты две важных вещи, по этому поводу были публикации в Cell — тогда и сейчас это один из самых престижных научных журналов. Первое: было показано, что мобильные элементы, ретропозоны, у которых длинные концевые повторы по краям, — это фактически ретровирусы. Они размножаются как ретровирусы, у них есть цикл. Второе: работа, в которой участвовали Л.Ю. Мизрохи, я и Ю.В. Ильин: мы показали наличие нового типа промоторов у высших эукариот. До этого был известен только один тип промотора — ТАТА-бокс. Это совершенно новое открытие.
— В каких направлениях сейчас развивается институт?
— По-прежнему в трех направлениях: химия, физика и биология, — тесно взаимодействующих между собой. Правда, биологических отраслей стало гораздо больше, чем раньше. В институте ведутся исследования в различных областях современной молекулярной биологии: изучаются работа базового молекулярного аппарата клетки, механизмы возникновения нейродегенеративных заболеваний, гибели клеток, молекулярных механизмов злокачественного перерождения клеток, молекулярных механизмов регенерации и старения. Ведутся работы очень высокого уровня в области иммунологии и вирусологии.

София Георгиевна Георгиева. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
Сейчас наука стала гораздо более прикладной, во всем мире ее стараются повернуть на медицину, дают деньги на такие исследования. И мы тоже находимся в этом тренде. Нет возможности перечислить все интересные направления, развивающиеся в нашем институте. Из биологических исследований, которые дают или могут дать хороший прикладной выход, это технологии молекулярной диагностики, которые разрабатываются и успешно внедряются в практику. Это, опять же, Петр Михайлович Чумаков — онколитические вирусы. Я считаю, у нас очень сильное направление научного руководителя института Александра Александровича Макарова — то, что они делают по болезни Альцгеймера. Они нашли новый механизм, который работает при этом нейродегенеративном заболевании. Мне кажется, там хорошие ожидания. Традиционно очень сильным направлением в нашем институте считается химия, в частности поиск физиологически активных соединений.
В институте есть очень современные виварий и акварий, дающие возможность работать с животными моделями. Можно убить ген, изменить, сделать мутации — все это нужно для того, чтобы понять, нарушения каких генов вызывают то или иное заболевание.
— У вас также есть лаборатория факторов транскрипции. Чем вы там занимаетесь?
— Мы переехали сюда два года назад, в течение года сложно налаживали работу. Поэтому делать какие-то выводы нам рано. Но могу сказать, что я всегда занималась базовым аппаратом экспрессии генов, вопросом, как осуществляется работа генов на разных стадиях — от синтеза мРНК на гене до ее экспорта в цитоплазму. Наши интересы — как регулируется работа гена, как происходит транскрипция (синтез РНК на молекуле ДНК) и как осуществляется транспорт мРНК через ядерную пору в цитоплазму.
— Вы разобрались с этим вопросом? В чем для вас появилась ясность благодаря вашим работам?
— Биология — это такая вещь, в которой до конца разобраться невозможно. Что бы ты ни узнал, всегда встают новые вопросы.
Например, мы открыли новый белковый комплекс и показали, что он нужен для экспорта мРНК, которая синтезируется в ядре, через ядерную пору в цитоплазму. Если делаешь нокдаун, убиваешь какой-то из белков данного комплекса, нарушаешь его работу, то мРНК остается в ядре. Нами показано много новых закономерностей в работе аппарата экспрессии генов, найдены и охарактеризованы новые белковые факторы, осуществляющие регуляцию экспрессии генов.
— Вы так об этом радостно говорите — наверное, это произвело на вас большое впечатление?
— Да, любое открытие, когда ты понимаешь, как что-то устроено, — это невероятно красиво. Ты вдруг видишь, как все сложилось. В работе ученого много разочарования, когда много раз ставишь эксперимент, меняешь условия — и ничего не получается. Но когда получается, это приносит огромное удовлетворение и большую радость. Такие моменты запоминаются. Я до сих пор помню, как выглядят те автографы на пленке, на которых я увидела важный получившийся результат, даже если это и было давно.
— А сейчас что-нибудь подобное удается увидеть?
— Удается, в лаборатории получаем много интересных результатов. Например, обнаружили новые механизмы в работе комплекса, осуществляющего ремоделинг хроматина. Белковые факторы, которые инициируют транскрипцию гена, должны связаться с его промотором. Чтобы это произошло, специальные комплексы делают структуру промотора открытой для связывания — осуществляют ремоделинг хроматина. Важно, что мы открыли совершенно новые закономерности в работе субъединиц этого комплекса. Это очень интересное направление работы, и новая субъединица была открыта тоже нами.
— Вы ее как-то назвали?
— У дрозофилы мы дали ей название по первым буквам наших имен, поэтому назвали SAYP, но это не очень красиво звучит, хотя и закрепилось в научном языке. Когда мы начали работу с белком человека, его геном уже был секвенирован, каждый ген, даже если он не был охарактеризован, имел какое-то имя. Гомолог SAYP у человека был назван PHF10, мы его так и называем.
— Все это нашло какое-то практическое применение?
— У нас скорее фундаментальное исследование, хотя мы стараемся выйти на практику, но это не всегда просто. Как минимум многие транскрипционные факторы — это мишени для лекарств против того же рака. У нас такие есть — например, транскрипционный фактор, про который мы знаем, что он активирует транскрипцию генов, зависящих от MYC. МYC — один из мощнейших онкогенов. Наш белок, который мы открыли, вместе с МYC, активирует гены, ведущие к пролиферации клетки, ее злокачественному перерождению. Мы показали, например, и собираемся это опубликовать, что без него МYC активирует в несколько раз хуже. А значит, его злокачественный потенциал снижается. Мы надеемся, что у нас все постепенно выйдет на практику, хотя путь всегда долгий. И никогда не знаешь с фундаментальной работой, где выстрелит.
— Мы боремся с раком, делаем замечательные открытия, есть много перспективных разработок, огромное количество ученых об этом рассказывают, и ваш отец в том числе, а победить его никак не можем, поскольку внедрение этих разработок зачастую просто не идет, лежит в институтах. Нет ли у вас ощущения сизифового труда?
— Да, оно бывает. Но в отношении того, что наука никак не может вылечить рак, — тут все не так просто. Рак — это заболевание базового аппарата работы генов. И подступиться к этому ученые пытаются со всех сторон, но это очень сложно. Нельзя ожидать, и никто не ожидает, что будет одно лекарство, которое вылечит все виды рака. Это разные пути, надо двигаться отовсюду. Все опухоли индивидуальны. Борьба с раком — очень амбициозная задача.
В отношении того, что многие разработки лежат, их трудно внедрить, — конечно, это есть. Тут нам нужна была бы помощь государства, создание четкого механизма рассмотрения и оценки новых разработок и схемы их внедрения. Почти до недавнего времени все фирмы хотели брать только совершенно готовые технологии, которые прошли все стадии испытания: доклинику и клинику. Но, чтобы это пройти, нужны огромные деньги, которых у ученых нет. Такой замкнутый круг, к сожалению, из которого крайне трудно найти выход.
— Что бы вам хотелось обязательно понять в биологии? Какая перед вами стоит важная научная задача, которую необходимо решить?

София Георгиевна Георгиева. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
— Наверное, хотелось бы до конца решить задачи, связанные с открытыми нами, но не донца понятыми процессами. Я люблю в своей работе то, что мы работаем над совершенно новыми вещами, которые сами нашли. Хочется в этом разобраться, и, надеюсь, через несколько лет мы это доделаем. Вообще Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта — это всегда было необычайное увлечение наукой, огромный драйв. Люди этим жили. Мы в лаборатории Ю.В. Ильина ставили целью не то, чтобы, как сейчас, за три года сделать требуемое количество статей, а чтобы первыми в мире получить и опубликовать важные результаты. Мы соревновались с мировой наукой, и это было потрясающе. Мы чувствовали себя на переднем крае мировой науки, вписанными в нее.
— Сейчас такого нет?
— К сожалению, это сильно уменьшилось… Бюрократия съедает нас невероятно. Это мировая тенденция. В результате остается меньше времени на работу, время расходуется неэффективно. А ведь в науке очень важна свобода творчества. Как небольшой пример: тот план работ, который написали в гранте, мы и должны делать. Как такое возможно? Наука же динамична. Видишь новую опубликованную работу или слышишь что-то новое на конференции, и тебе надо начать что-то быстро делать. Ты понимаешь: если сделаешь, то совершишь открытие.
Но ты ограничен. Или в лаборатории сделана интересная работа, которую можно опубликовать в хорошем журнале. Так, чтобы научное сообщество ее заметило. Но напечататься в журнале высокого уровня всегда трудно: надо пройти очень жесткое рецензирование, очень много времени уходит на учет замечаний, на доделки и исправления. Бывает, что получаешь отказ из журнала — и тогда приходится посылать в другой, опять начинать все сначала. А по условиям гранта необходимо опубликовать статью к определенному сроку. И ученые, чтобы уложиться в срок, не борются за публикации высокого уровня, а просто снижают уровень журнала, чтобы опубликоваться наверняка. А чем слабее журнал, тем меньше его читают. В результате статья проходит незамеченной. А еще бесконечная писанина. Все это страшно отвлекает от занятий наукой.
— Вы сказали о своих научных планах. А какие, на ваш взгляд, планы и перспективы у института? Что бы хотелось развить, привнести новое?
— Вы знаете, я очень люблю свой институт. У меня очень хорошие заместители, молодые ребята. Вообще у нас много молодых талантливых ученых — это дает надежду, что институт будет хорошо жить дальше. Мне кажется, у нас есть направления, которые движутся на острие науки, и, если их поддерживать, они дадут очень многое. Люди у нас толковые — и среднее поколение, и молодое. Они все у нас замечательные, очень амбициозные, увлеченные, работающие. Если будет возможность это развивать, все будет хорошо.
— У вас в семье целая династия молекулярных биологов: папа — академик, брат — тоже академик, директор Института биологии гена, вы директор Института молекулярной биологии, тоже академик. Как вам это удается? Что для этого нужно делать?
— Это происходило не специально. Просто когда видишь, как работают родители, это становится для тебя примером с детства. Мама у нас тоже замечательная — Анастасия Александровна Некрасова, кардиолог, доктор наук, работала в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии. Она ученица А.Л. Мясникова, невероятно одаренный врач, целиком отдавала себя лечению пациентов.
— Но вы не стали врачом, а стали, как отец, молекулярным биологом. Почему?
— Да, у нас в семье считалось, что наука важнее медицины. Папа нас не убеждал, но как-то само собой подразумевалось, что наука — это больший вызов, это самое главное в жизни.
— Как ему удалось вас убедить не убеждая?
— Своей жизнью. Как писал, если правильно помню, русский философ В.С. Соловьев, его воспитывала полоска света из-под кабинета отца, когда он работал. У нас, наверное, то же самое — увлеченность, разговоры о науке. Мы в этом росли. А потом, когда я стала работать, отец был моим учителем, мы с ним многое обсуждали. И сейчас обсуждаем, он очень живо интересуется, дает советы не только в науке, но и вообще в жизни. Конечно, иногда это меня начинало прессовать. Он порой слишком активно вмешивался: «Как идет статья? Опубликовали? Нет? Почему так медленно, надо быстрее!»
— Георгий Павлович, видимо, не очень понимает, что у женщины есть еще масса других забот — семейных, бытовых — и надо все это успевать.
— Конечно. У меня двое детей, мне все время приходилось крутиться.
— Ваши дети тоже пошли в науку?
— Нет, они, глядя на меня, сказали: «Мама, ты всегда приходишь очень поздно, у тебя всегда болит голова, мы хотим что-то другое». Я много работала за границей, у меня были командировки по несколько месяцев, по году, приходилось оставлять их с моими родителями, иногда вызывала к себе. Это было тяжело. Так что в моем случае вопрос, как можно чего-то достигнуть, наверное, имеет такой ответ: я просто работала много, успешно и увлеченно. Когда работала во Франции, руководитель моей лаборатории сказал, что у него никто еще не был так эффективен, чтобы каждые три месяца выходила статья. Это папина школа, которая уже стала моим образом жизни.
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ