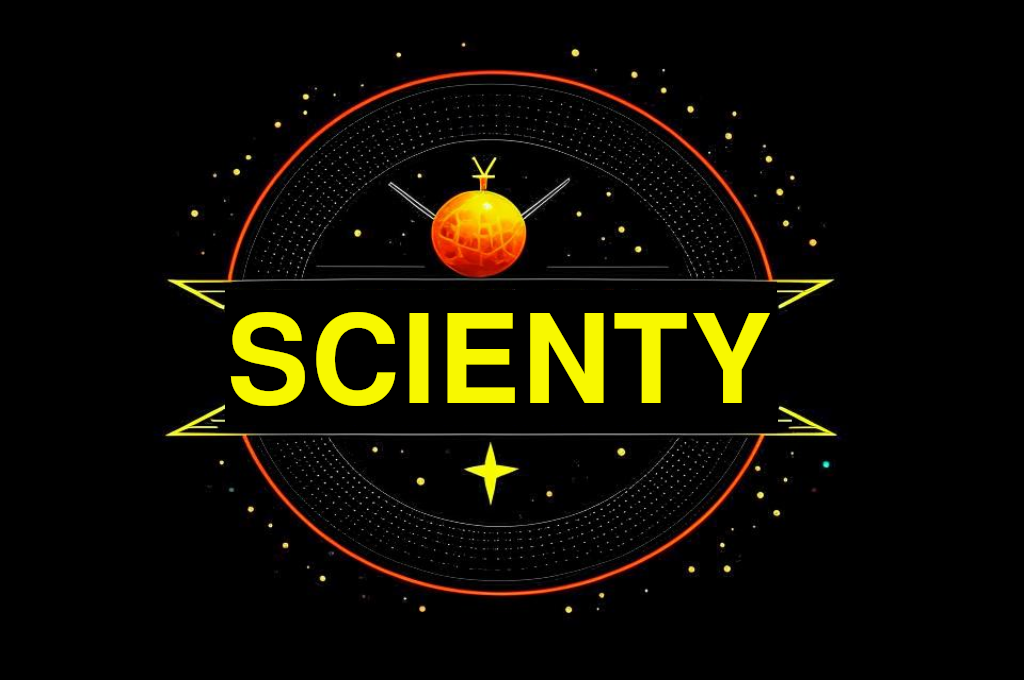Как устроен мозг? Что такое глиальные клетки и какую роль они играют в процессах запоминания и обучения? Можно ли стереть память или вернуть ту, что была утрачена? Почему не умеют лечить нейродегенеративные заболевания? Что нужно сделать, чтобы этому научиться? Об этом рассказывает научный руководитель института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН академик Павел Милославович Балабан.

Павел Милославович Балабан. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
― Павел Милославович, всю жизнь в науке вы занимаетесь исследованиями мозга. Как для вас это началось?
― Я довольно рано пришел в лабораторию, где-то на втором курсе МГУ. Мой научный руководитель, один из гениальнейших людей ХХ в. профессор Евгений Николаевич Соколов, филолог, психолог, психофизиолог, понимал: чтобы лечить болезни мозга, нужно знать механизмы. Уже в конце 1960-х ― начале 1970-х гг. он сформулировал задачу исследования мозга на уровне отдельных нейронов и их связей. В то время это было технологически очень сложно. Исходя из того, что мы хотим понять, как организованы нейронные сети мозга и как они управляют поведением, первая задача, которую он мне поставил, была очень интересная: взять любую простую улитку, о которой известно, что у них очень крупные нейроны. Мы можем в них втыкать стеклянные микроэлектроды и регистрировать их активность на совершенно другом уровне. Не экстраклеточная регистрация, когда идут отзвуки активности, как при регистрации ЭЭГ у человека, ― это отзвуки работы мозга, как шум толпы на стадионе. На уровне ЭЭГ в те годы уже было довольно много сделано, и стало понятно, что к механизмам здесь не подобраться. По шуму толпы не понять правила игры.
― А этот отклик у каждого свой и мы таким образом изучаем индивидуальную реакцию?
― Он всегда разный даже у одних и тех же игроков. А мы хотим понять правила. Но для понимания правил нужно регистрировать каждого игрока. Если у нас миллиарды нейронов, то у брюхоногих моллюсков их тысячи. Задача была поставлена очень просто: найти какую-то простую поведенческую реакцию и понять, какая нервная сеть лежит в ее основе. В каком-то смысле эта задача лет через 20 была решена. Но тем не менее мы все равно плохо понимаем принципы работы нейронной сети. Проблема оказалась в том, что даже если в нервной системе всего 1 тыс. нейронов, то у каждого из нейронов ― десятки тысяч связей. Нам пришлось так или иначе работать с этими синаптическими связями. Их слишком много для анализа. При этом нужно регистрировать каждый нейрон сети, а это даже сейчас технически невозможно. Мой личный рекорд ― 450 нейронов одновременно.
― Могут ли тут помочь суперкомпьютеры?
― Нет. Не существует универсальной технологии визуализации. Куда мы направили свет и объектив, там и регистрируем. А надо регистрировать, может быть, в соседних местах. Проблема в том, что, по сути, мы регистрируем «под фонарем». Где подсветили, там и регистрируем. А куда нужно было светить? Особенно эта проблема остра для высших животных. У человека уже 80 млрд нервных клеток, у мыши ― около десяти, но ведь миллиардов! И это только нервных клеток. Однако задача была поставлена, и мы очень быстро перешли к тому, что зарегистрировали простейшие реакции, получили какие-то данные, было довольно интересно.
Но очень быстро встал вопрос: а возможно ли ассоциативное обучение у простейших животных? В те годы бытовало мнение, что у простых животных нет ассоциативной памяти. Я попал по распределению в институт ― наследник идей И.П. Павлова, и тут память, обучение ― это приоритет. Поэтому очень быстро была поставлена задача выработать условные рефлексы. Нам пришлось придумывать необычные способы, потому что работать с простыми животными отнюдь не просто. Они все время разбегаются, во время опыта их в клетку не посадишь.
― Что же это за способы?
― Один из способов, которым все пользуются с конца 1960-х гг., я подсмотрел в статье о тараканах, где они бегали по цилиндру. Они двигаются, но остаются на месте, потому что их прикрепили за спинку. Мы придумали для моей дипломной работы нечто подобное: берем крупную виноградную улитку, крепим пластилином за раковину к кронштейну, а под нее помещаем шар, который плавает в воде. Я купил в «Детском мире» легкий пластиковый шар. Улитка ползет с любой скоростью и в любом направлении, но остается на месте. Поэтому мы можем поставить видеорегистратор, фотографировать, предъявлять стимулы ― она фактически на одном и том же месте. Так можно объективно замерять ее реакции. Соответственно, не нужно гоняться за животным.
Лет через 15 мы сумели имплантировать улитке хронические электроды ― это то, что сейчас Илон Маск делает на людях. А мы делали такие же 12-микронные на улитках. Тончайшие проволочки имплантировали прямо в мозг, к отдельным нейронам, выводили наружу контакт и регистрировали в свободном поведении. Таким образом, мы осуществили самое важное, чего от нас требовали наши учителя начиная с Ивана Петровича Павлова и заканчивая моим учителем Евгением Николаевичем Соколовым, ― объективную регистрацию. Не протокол и мнение экспериментатора, как принято в когнитивных исследованиях при работе с человеком, а просто объективная реакция животного. Мы изобретали разные методики, уникальные регистраторы…
― Например?
― Нам нужно было зарегистрировать изменения светового луча, в котором находились какие-то органы улитки. Это должна быть линейная запись в определенном диапазоне. Нам сразу сказали: берите солнечную батарею. Но у обычной солнечной батареи оказалась очень нелинейная зависимость тока от света. По сути, ноль-единица. Нам это не подходило. Мы пошли к инженерам, сказали: нам нужна солнечная батарея, только линейная. Они ответили, что такая есть, но на основе не кремния, а германия. В итоге в одном из НИИ нам подарили несколько кусочков такой германиевой батареи в виде обломков, а стоимость германия намного выше золота и платины. Когда я спросил, откуда эти обломки, мне сказали, что это остатки упавшего спутника. А в космосе иногда используют германиевые батареи. Так мы работали на остатках упавшего спутника и до сих пор на них работаем.
― Что самое важное вам удалось понять о работе мозга за эти годы?
― Вопрос очень трудный. В том, что мы делали, у нас было много поворотов в научной тематике. Сначала мы хотели просто понять: как нейроны взаимодействуют друг с другом, что такое синаптическая пластичность, как эти контакты изменяются при обучении? Довольно быстро удалось установить много закономерностей, хотя почти все нейрофизиологи в 1970–1980-х гг. фактически занимались только этим.
К концу 1980-х гг. стало ясно, что микроэлектродная техника, позволяющая регистрировать четыре-пять нейронов одновременно, не перспективна. И мы перешли на оптическую регистрацию. Я считаю, что наша лаборатория первая в России перешла на оптическую регистрацию электрической активности. Нам удалось увидеть электричество. А это означает ― все, что попало в площадь зрения, мы видим.
Мы с этим работали лет десять, узнали довольно много интересных вещей. Мы занимались в том числе и поиском новых лекарств, в частности противоэпилептических. Но все-таки оказалось, что это не очень продуктивно для нервных сетей, состоящих из тысяч и десятков тысяч нейронов, разбросанных к тому же по разным местам. А оптическим методом мы смотрим максимум в двух местах, если сумеем свести два объектива вместе, но как это сделать технически, непонятно, чрезвычайно сложно.
После наших оптических исследований мы перешли к генетически кодируемым сенсорам и к анализу на уровне генома. Я считаю, в нейрофизиологии наша лаборатория была одной из первых в России.
― Почему это было важно?
― Прежде всего, если мы рассматриваем какие-то изменения в нервной системе, которые длятся больше часа, то есть какие-то длительные изменения, в этом случае обязательно включается геном.
― А почему именно час? Или это условно?
― Нет, это абсолютно не условно. Есть электрические события, происходящие в клетке. Любая клетка, не только нервная, стремится к какому-то среднему положению; понятие гомеостаза существует с XVII в., его никто не отменял. Если клетка после какого-то воздействия не вернется к среднему состоянию, то на следующий раз не отреагирует. И все электрические события, регистрируемые в клетке, если больше не производить никаких воздействий, возвращались к норме за 40–50, максимум 60 минут. При этом долговременная память еще не была видна, она только начинала появляться. Поэтому было твердое ощущение, что мы ищем не совсем там, где надо. Конечно, эти изменения эффективности связей между нейронами важны, но точно не в них лежит что-то, что меняется надолго ― на неделю, месяцы, годы.
― Каким образом вы видели, что сейчас начала формироваться долговременная память, а вот до этого ― еще нет?
― Тут нам повезло: мы одновременно работали и на мышках, и на улитках. На самом деле примерно с 1990-х гг. мы использовали низших животных, чтобы проверить: а есть ли сам феномен? На высших животных, на человеке любые исследования повторить очень трудно из-за слишком большого количества неконтролируемых факторов. А у простых животных гораздо меньше неконтролируемых факторов, им даже кислород толком не нужен. Температура может быть в более широком диапазоне, потому что это хладнокровные животные. И если какой-то эффект повторяется на улитках, это означает, что этот феномен действительно существует в биологии и можно попробовать посмотреть какие-то базовые механизмы.
И однажды мы сумели выработать ассоциативные изменения прямо в чашке Петри, а потом промерить с большой частотой. Но никто не понимал, почему через час, через два после обучения начинает формироваться долговременная память. Все просто ждали несколько часов.
Мы сделали инвитро-систему, которая не может не реагировать, и увидели экспериментально, что в течение первого часа после окончания обучения памяти нет. Все нейроны, все синаптические связи на месте, а памяти нет. Потом мы ничего не делаем, просто ждем, и она постепенно появляется. Это абсолютно точно совпадает с периодом так называемой консолидации памяти.
― А что вы видите в момент появления долговременной памяти? Как это выглядит?
― В наших экспериментах мы регистрировали активность нервных клеток, связанную с оборонительным поведением, с отдергиванием улитки.
― Потому что вы делали ей больно?
― Нет. Само обучение заключалось в том, что мы предъявляли запах любимой пищи, и эти клетки никогда не реагировали на это, потому что они связаны с оборонительным поведением. Но после сочетания пищи с очень сильным отрицательным подкреплением ― электрошок или хинин на хеморецепторы ― первый час ничего нет, а через полтора-два часа в клетках оборонительного поведения появилась реакция на вкус или запах пищи, в зависимости от эксперимента.
Этот таинственный первый час для меня всегда был загадкой. Что происходит? Нейроны ― вот они, на месте, но где что-то происходит? Сами нейроны не меняются, меняется эффективность их входов. Какие-то связи меняются. Это всегда вызывало недоумение, но ничего не сделаешь, все ждут, а потом тестируют.
― Наверное, не все задавались вопросом, просто принимали как факт. А вы задались этим вопросом.
― Все задавались этим вопросом. Есть опыт английских авторов из Университета Сассекса на еще более простых улитках, они проверяли каждые десять минут (а мы ― каждые 30 минут) и получили то же самое: что есть время, когда памяти нет, потом она появляется, потом исчезает. У них даже получилось два периода, не знаю, с чем это связано. Но есть время, когда памяти нет, потом ничего не делаешь, а она появляется. Это означает, что долговременная память и первоначальная реакция ― это два разных процесса. Так их теперь и различают: есть кратковременная память, и она уходит на ноль.

Павел Милославович Балабан. Фото Ольги Мерзляковой / Научная Россия
― В течение часа или двух?
― Примерно так. Долговременная память в это время только начинает появляться. И в зависимости от интенсивности стимула вы можете увидеть тот момент, когда уже нет кратковременной памяти, но еще нет долговременной. И все предпочитали с этим не связываться.
Второй «звоночек» в этой области был, когда в 2006–2008 гг. была открыта молекула, специфически связанная с памятью. Мы пытались ее блокировать, чтобы понять, действительно ли она связана с памятью. У нас ничего не получилось. Это молекула одного из ферментов, отвечающего за доставку рецепторов в контакты между нейронами. Это белковая молекула, живущая несколько дней. А белковые молекулы участвуют в реализации памяти, но не должны ее кодировать.
И мы сделали ту же ошибку: сразу после обучения вводили пептидный блокатор, действовавший около часа. И у нас ничего не получилось. Потом мы посмотрели литературу, посоветовались с коллегами и поняли, что величина этой молекулы только через полтора часа нарастает в таком количестве, когда она может себя проявлять. И вот тогда надо действовать. Мы попробовали, и все получилось. Мы стерли память.
― Значит, так можно стирать травмирующие воспоминания?
― Можно, если бы организм вырабатывал такие блокаторы. Но он их не вырабатывает.
― Но их можно вводить искусственно?
― Теоретически да, но их нужно вводить адресно, чтобы попасть в тысячу нейронов из 80 млрд. А это на сегодня нереально. Пока нереально.
Но в природе есть другой способ. Кстати, одно из направлений наших исследований — и, мне кажется, очень важное направление, ― как природа модифицирует память. Ведь она у нас все время меняется. Если бы мы не могли модифицировать память, ослаблять и усиливать, то накопление произошло бы очень быстро и вряд ли организм мог бы справиться с этим. Говорят, что есть несколько людей на планете, которые помнят все. Их называют эйдетиками. Эти люди не могут работать, общаться, потому что они все время переживают свои воспоминания. Но научных описаний я не нашел.
По поводу стирания памяти: тот механизм, на который мы в свое время наткнулись, мне кажется, самый действенный и самый простой. Он завязан именно на активность нейронных сетей, специфически участвующих в формировании и хранении конкретного вида памяти. Оказывается, когда активируется нейронная сеть, в каждом из активированных нейронов включается синтез очень простой молекулы, самой маленькой ― оксида азота. Она представляет собой свободный радикал ― очень реакционно способная молекула, она реагирует со всем, что есть рядом. Она существует всего две-три секунды, что тоже очень важно: чтобы не стереть лишнего. Она фактически связывается со всеми белками в округе, и эти белки встают в очередь на уничтожение, меняют свою функцию, пространственную конфигурацию и уже не могут функционировать. И оказывается, что фермент, производящий оксид азота, пространственно «сидит» на одном из основных рецепторов для запуска формирования памяти.
― То есть там, где память начинает формироваться, активируются молекулы, уничтожающие память? Получается парадокс?
― Получается, что, когда мы реактивируем какую-то память, избирательно активируется та тысяча нейронов, которые связаны с этой памятью. В каждом из них запускается процесс уничтожения этой же памяти. И одновременно запускается синтез новых этих же молекул. И если никакого вмешательства не происходит, то память, скорее всего, даже упрочнится. Новые молекулы придут через 30–40 минут, и все встанет на место. Вы вспомнили что-то ― и замечательно.
Но если в этот момент произойдут какие-то посторонние влияния и не позволят встать на место новым белковым молекулам вместо тех, которые уже разрушаются, то память исчезнет. И это было доказано экспериментально.
Основное вмешательство, используемое в экспериментах, ― это блокада синтеза новых белков. Старые нарушены, новые не приходят, память исчезает. И так и происходит у всех животных ― от улиток до человека.
― Если можно стереть память, значит, можно и вернуть. Существует множество нейродегенеративных заболеваний, связанных с потерей памяти. Вы занимаетесь такими исследованиями?
― Теоретически вернуть можно, но опять-таки проблема в адресности. Память нужно вернуть в очень небольшой процент нейронов. Когда мы просто вводим какое-то вещество, оно доступно всем. Получается безадресность и не получается специфики, а память ― это специфика.
Природа придумала только один способ ― это напоминание и выработка этой же памяти, формирование заново. Это и есть обучение. Если оно по какой-то причине нарушено, то память может не сформироваться. При этом можно искусственно усилить какой-то вид памяти, и это сейчас активно разрабатывается ― адресность, экспрессия определенных белков, каких-то ферментов только в определенной группе нейронов. И тогда они начинают отличаться от соседей. Это возможно. Но превзойти природу мы пока не в состоянии.
― Мы привыкли думать, что главная единица функционирования мозга ― это нейроны. Но вы недавно выступили на заседании президиума РАН с заявлением о том, что вовсе не нейрон составляет главное население головного мозга, а глиальные клетки, их носители ― астроциты, название которых, как я понимаю, произошло от слова «астра» ― они визуально похожи на звездочку. Расскажите, откуда взялась эта догадка и почему.
― Все упирается в ту же самую локальность. Возьмем тысячу нейронов, связанных с определенной памятью, и вспомним о том, что в первый час при формировании памяти ее нет. Все связи этой тысячи нейронов на месте, а памяти как таковой нет, но что-то за этот час происходит. При этом нейроны ни с кем не общаются. Регистрации проводили непрерывно, никакого интенсивного обмена информацией с соседями не происходит.
Этот период, во время которого память еще не сформирована, давно известен. Первая статья вышла в 1900 г. Там проанализировано большое количество экспериментов. Было описано, что память становится долговременной только через определенное время ― в сумме до четырех часов. В течение этого времени ее легко можно нарушить. Первый час ее вообще не видно, потом она только начинает появляться, а через четыре часа полностью формируется.
― Долговременная и кратковременная разновидности памяти совпадают по своему содержанию или нет? Я буду помнить через четыре часа то же самое, что я помнила в начале, или мои воспоминания трансформируются?
― Судя по механизмам, все-таки немного не совпадают. Трансформируются. Первые механизмы ― это чистая электрофизиология. Там еще примешивается стресс от подкрепления, работают другие нервные сети. Потом лишнее уходит и остается только память о чем-то конкретном. Вот это уже долговременная память. Считается, что кратковременная память ― это не совсем то, хотя очень похож начальный этап, запуск формирования долговременной памяти.
― Вы разгадали загадку этих нескольких часов?
― Пока это только догадки. Несколько лет назад у нас был грант, направленный на исследование окружения нейронов. Все данные были известны больше 100 лет. То, что в мозге есть клетки, окружающие нейроны, ― тоже известный факт. Нейроны не в пустом пространстве, они плотно «упакованы» со всех сторон другими клетками, у которых нет электрических импульсов. Они не общаются ни с кем, кроме своих ближайших соседей. Но их в мозге в восемь раз больше, чем нервных клеток. Это основное население мозга, если судить по количеству. Это глиальные клетки ― окружение нервной ткани. Их называли поддерживающими. А все вместе это ткань мозга.
― Почему их называют поддерживающими?
― О них известно, что они одним своим концом упираются в сосуды, забирают оттуда питательные вещества и как бы выбрасывают в сторону нейрона. У них нет специализированных контактов, но они выполняют важную функцию доставки питательных веществ в нейроны. В последние пять лет появились методы, которые выходят за световое разрешение. С помощью флуоресценции мы смогли увидеть более тонкие отростки, меньше микрометра. Оказалось, что там огромное количество, просто дерево отростков. И каждый из этих астроцитов ― глиальных клеток, которые контактируют с нейронами, ― контролирует работу не менее восьми нервных клеток.
Если проанализировать литературу последних 15 лет, оказывается, что больше половины веществ, абсолютно необходимых для формирования памяти, так называемые некодирующие РНК, синтезируются только в глии. А работают они ― и это доказано ― в нейронах. Однако эти вещества не могут проникать через нейрональную мембрану.
Сопоставив все это, получаем крайне необычную ситуацию: как минимум половина веществ, необходимых для формирования долговременной памяти за эти часы, синтезируются в глиальных клетках. Получается очень изящная картина ― как природа придумала отсеивать ненужную информацию.
― Как же?
― Реагирует та же тысяча нейронов. У этой тысячи есть 8 тыс. окружающих только их астроцитов. Для каждого нейрона ― свои соседние астроциты. Предположим, мы даем условный стимул, животное что-то вспоминает, активируется нейронная сеть, связанная с этой памятью. Оказалось, что их активация такая же, как при обучении. Там выбрасывается много веществ, все это активирует лежащую вокруг глию. Но не активирует вокруг других 80 млрд нейронов. Избирательность достигается элементарно: кого мы активировали, те и активируют глии вокруг себя. Оказалось, что эти глиальные клетки именно при активации начинают выбрасывать особые вещества в межклеточное пространство, и молекулы достигают мембраны нейрона простой диффузией. При этом они выбрасывают не просто нужные вещества, такие как микроРНК, которые служат эпигенетическими регуляторами и меняют дальше экспрессию генов в нейронах, а еще и другие ― например, липопротеиновые частицы. Оказывается, они очень много чего выбрасывают и обеспечивают проникновение этих веществ через мембрану нейронов.
Этот процесс занимает десятки минут и больше. Отсюда берется этот таинственный час. После чего эти регуляторы, которые и формируют память, проникают в нейрон, там должны достичь ядра и изменить уровень экспрессии определенных генов. А каких генов — зависит от того, был этот нейрон активирован во время обучения или нет. Если нейрон был активирован, у него надолго меняется уровень экспрессии генов. Это и есть долговременная память. Дальше в этих клетках идет синтез белков на новом уровне. И когда мы тестируем, есть память или нет, те нейроны, в которых все это произошло, реагируют, и мы говорим: «Да, животное или человек все помнит».
― Вы сказали, что пока это предположение. Значит, дальше вы будете проверять все экспериментально?
― Частично мы уже проверили очень многие вещи. Например, нам удалось сделать генетический конструкт, который избирательно экспрессируется в этих глиальных клетках. Мы сделали даже два генетических конструкта, которые по разным путям активируют глиальные клетки вокруг конкретных нейронов. И проверили, что они могут сделать с нейронами на несколько часов.
Оказалось, что если мы активируем одним способом, когда ионы входят через мембрану, то идет торможение связей нейронов. Значит, глия может управлять эффективностью связей. А если процесс идет через основные метаболические пути и те же ионы выходят из специального внутриклеточного депо, то можно вызвать полностью противоположную реакцию. То есть глия может как подавлять активность нейронов и эффективность связей, так и усиливать. Диапазон оказался просто фантастическим.
Работа вышла у нас в прошлом году. Это вызвало большое удивление. Но тут мы показали конкретный механизм. Еще вопрос: как работает эпигенетическая регуляция? Мы взяли микроРНК и другие вещества, другие эпигенетические регуляторы с известными механизмами действия на молекулярные мишени, и посмотрели, действительно ли пластические характеристики изменятся на несколько часов и больше, если мы изменим эту регуляцию. Это работы и наших ученых, и зарубежных.
― Какой же результат?
― Изменения идут. Значит, эпигенетическая регуляция и есть основа долговременной памяти.
― А что вам пока не удалось сделать, но хотелось бы?
― Пока нет всех нужных нам технологий, но они все время появляются. Идеально было бы иметь модель in vitro, потому что в мозге все-таки очень сложно посмотреть на субклеточном, клеточном уровне. Хотелось бы разработать модель, в которой можно увидеть, как нейрон взаимодействует с глией, она отдает ему вещества, идет долговременная регуляция изменения синаптических связей нейронов. Тогда можно будет твердо сказать, что нейронная система ― это способ связей частей мозга, а вся работа, все население мозга ― это глиальные клетки, которые используют нейроны, чтобы общаться с другими частями мозга и вызывать уже движение или приток сенсорной информации. Нейроны ― это пути связей. Но ими управляет то население, которое живет вокруг них и которого в восемь раз больше. Это глия. При этом сама глия не участвует в процессе, которым мы вызываем воспоминания.
― Поэтому нельзя говорить, что нейроны нам не нужны. Нам нужны и глиальные клетки, и нейроны.
― Именно так. И тогда мозг функционирует нормально. Более того, как оказалось, первопричина многих патологий всегда в глии. Если в глиальных клетках происходит нарушение, то потом страдают и нейроны. Они обеспечивают основной метаболизм, основной жизненный уровень мозга. Если он снижается, то возникает патология. И мне кажется, что недооценка роли глии ― одна из причин того, что в настоящее время не вылечено ни одного больного патологиями мозга. Мы умеем только приостанавливать симптомы, но мы не знаем причин заболевания. И, судя по всему, не там ищем. Если мы хотим остановить болезнь Альцгеймера, вылечить ее, то не нужно смотреть на продукт взаимодействия нейрона и глии. Там образуются бляшки, которые, собственно, отражают то, что мозг борется с токсическими веществами и откладывает их в эти бляшки как в хранилища, как бы нейтрализует их. Борьба с бляшками, наверное, приостановит процесс, потому что эти бляшки ухудшают состояние нейронов; глия при этом реагирует гораздо раньше, но на ее состояние никто не смотрит. Найти маркеры ранних проявлений патологий мозга ― наша задача номер один. Это вывело бы нашу медицину в области нейропатологии на качественно новый уровень.