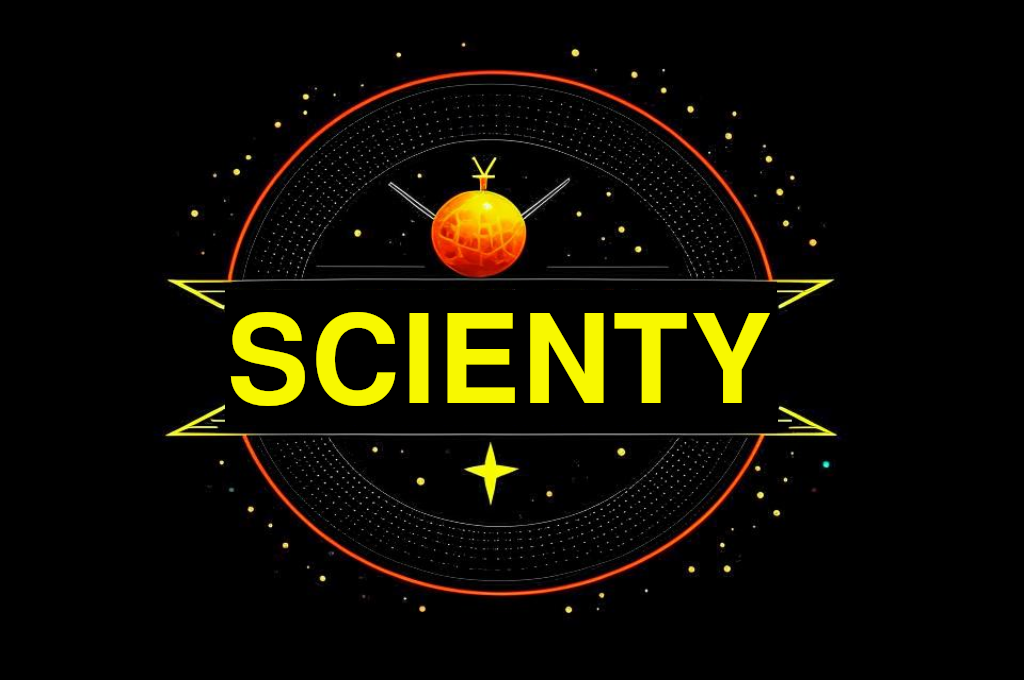Зачем на дне Байкала ловят астрофизические нейтрино? Как начинался Байкальский глубоководный эксперимент Института ядерных исследований РАН? Какую информацию несут эти почти неуловимые частицы? Что мы уже знаем, а что нам предстоит узнать? Об этом мы беседуем с руководителем лаборатории нейтринной астрофизики высоких энергий ИЯИ РАН членом-корреспондентом РАН Григорием Владимировичем Домогацким.
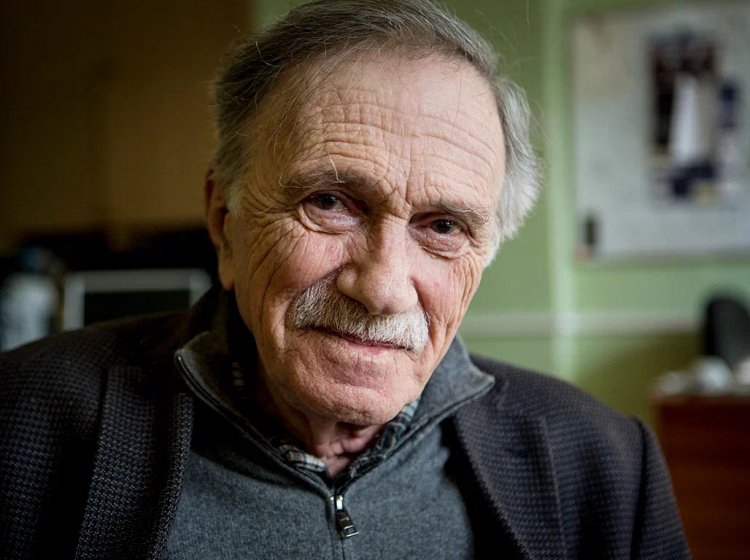
Григорий Владимирович Домогацкий. Фото Ольги Мерзляковой
— Григорий Владимирович, все ваши предки были людьми искусства — скульпторами, художниками, а вы занялись нейтринной астрофизикой высоких энергий. Почему?
— Я бы сказал так: у родителей дом был открытый, всегда приходило много людей. Я рос, что-то слушал, что-то видел. На основании этого складывались какие-то представления о том, что есть в мире интересного. Одним из школьных товарищей моего отца был замечательный физик Моисей Александрович Марков, игравший в дальнейшем большую роль в развитии отделения ядерной физики академии наук. Мне это было интересно, и я поступил на физфак МГУ, хотя еще в девятом или десятом классе думал об археологии.
— Вы пришли в ИЯИ РАН более полувека назад и больше 40 лет возглавляете лабораторию нейтринной астрофизики высоких энергий. Почему именно нейтринная астрофизика высоких энергий стала вашей специальностью?
— После окончания университета, а тогда было распределение, я пошел в ФИАН, где в это время организовывалась лаборатория нейтрино. Это был 1964 г. К тому времени вышла книга М.А. Маркова «Нейтрино», чрезвычайно интересная. Я себя всегда представлял теоретиком, и первые 15 лет работы в ФИАН, а потом в Институте ядерных исследований, который выделился из ФИАН, я занимался вопросами, связанными с нейтрино и нейтринной астрофизикой.
— А как в вашей жизни возник Байкальский нейтринный проект?
— Довольно неожиданно. В 1980 г., когда я должен был защищать докторскую диссертацию, М.А. Марков сказал мне, чтобы я подумал, не готов ли я заняться проектом создания Большого нейтринного телескопа на Байкале. Я сказал, что мне нужно время. Мне дали полгода на размышление. До этого у меня был опыт довольно деятельного участия в создании Баксанской нейтринной обсерватории (это еще один крупнейший проект нашего института), поэтому я представлял, что это за работа, с чем столкнешься.
— А почему сомневались?
— Надо понимать, что система организации всего на свете была у нас допотопной всегда. Начиная с того, что все глубоководные нейтринные эксперименты предполагают наличие хорошего океанского оборудования, хорошего флота, хороших фотоэлектронных умножителей, еще массу всего, чего в стране не было. Задача состояла в том, что все это придется создавать. Мы тогда не покупали оборудование за границей. Ясно, что в стране надо было налаживать свое производство. Я не был уверен, что это удастся. И я сформулировал для себя несколько условий, при которых это может получиться.
— Что это были за условия?
— Я понимал, что если мы свяжемся с вопросами капитального строительства, то мы утонем. Это будут годы. Это трудно, затратно. Создание на берегу Байкала поселка или базы — это очень сложно.
— Но ведь на Баксане, где построили Баксанский нейтринный телескоп ИЯИ РАН, смогли создать поселок Нейтрино?
— Вот именно поэтому я и решил, что создать можно только при условии, если это будет выполняться экспедиционно. Там не будет проблем с детсадом, школой, больницей, которые всегда мучали Баксан. Тем более что всякое строительство на берегу Байкала запрещено. Когда Кругобайкальскую железную дорогу превратили в тупик до порта Байкал, а Восточно-Сибирскую железную дорогу пробили напрямую из Иркутска в Слюдянку, то все население, жившее вдоль Байкала, ушло. Когда мы в 1980-е гг. там появились, еще проходил поезд, который собирал всех детей на пути от порта Байкал до Култука, привозил их в интернат в Слюдянку в понедельник утром. Потом это стало бессмысленным, никого не осталось. На каких-то местных собраниях, которые устраивала область, меня просили быть представителем Кругобайкалья. Но потом и эти собрания сошли на нет.
— Это и были ваши условия?
— Да, никакого строительства, никакого капвложения. Но делать-то надо, и должны были поступать деньги, выделенные на научно-исследовательскую работу (НИР), — на создание и развитие технологии, создание фотоэлектронных умножителей, ледорезного оборудования, всей глубоководной техники, которой в стране не было.
— И это все создали! Телескоп работает, и работает прекрасно, дает уникальные результаты.
— Спасибо за высокую оценку нашей работы. Тут было два этапа. Первый этап — с 1980-х до конца 1990-х гг., когда все или почти все делалось у нас в стране. Когда создавалась лаборатория, чуть ли не первая моя служебная записка была о том, чтобы перевести в эту лабораторию талантливого физика-экспериментатора Леонида Борисовича Безрукова. Под его руководством в стране начался выпуск очень интересных приборов, которые назвали «Квазарами», — это такие большие фотоэлектронные умножители. Они составили основу первого телескопа НТ-200. Мы нашли людей, которые с удовольствием помогли нам наладить выпуск специальных глубоководных кабелей. М.А. Марков нашел в Нижегородском политехническом институте кафедру, единственную в стране, которая делала ледорезное оборудование. Казалось бы, одна из самых снежных стран — и ничего этого не было. Все делали эти люди. Они с энтузиазмом участвовали в нашей работе. И сейчас у нас есть вполне качественное ледорезное оборудование. Мы можем резать лед, прокладывать кабели. Чего сделать не могли, добавили немецкие физики из ГДР. Собрали лазерный источник света для калибровки, привезли транспьютеры для системы управления и сбора данных.
Но после 1990-х гг. начался второй этап, когда вместе с нами в работу стал все более активно включаться Объединенный институт ядерных исследований. Наши отношения сейчас вполне равные, паритетные. Мы бы без их участия не справились, но и они бы без нас ничего не смогли. Обе стороны это понимают.
— Какие результаты за все эти годы вы считаете самыми важными? Что вы поняли про нейтрино?
— По большому счету, какие-то эффектные научные результаты только сейчас пошли «на выход». Начали публиковаться первые статьи в хороших журналах, идет активное обсуждение этих результатов. Пока зарегистрировано малое количество событий, но дело двинулось. Мы регистрируем астрофизические нейтрино — те, которые родились не в атмосфере Земли, а далеко за ее пределами. Это уже серьезная наука.
Мы ведем такие исследования вместе с международным экспериментом Ice Cube. Когда начался этот эксперимент, там работали в основном американцы и шведы. Перешла туда и группа немецких физиков, работавших с нами на Байкале и получивших у нас первый опыт. Они использовали идею «втаивания» фотоумножителей в лед Антарктиды. Поначалу были огромные сомнения: непонятно, будет ли лед двигаться, единая масса или нет, до какой глубины идут пузырьки, потому что на 1,4 тыс. м — сплошные пузырьки. Свет рассеивается — никакой наукой вообще заниматься нельзя. Они не посмотрели работы советских экспедиций на станции «Восток», которые все это показывали, и с удивлением обнаружили в первом же эксперименте. Первая реакция была: «Все пропало, пустая затея!» Но потом выяснилось, что надо читать работы советских авторов и размещать регистрирующую аппаратуру на глубине свыше 1,4 тыс. м.
— У вас есть некоторые преимущества перед работами такого рода. Какие?
— Когда заряженная частица идет со скоростью большей, чем скорость света в среде, ее прохождение сопровождается излучением Вавилова — Черенкова. Павел Алексеевич Черенков работал в этом здании.
— Вы его знали?
— Конечно. Это первый советский нобелевский лауреат по физике, за 1958 г., если не ошибаюсь. Так вот, лед Антарктиды весь заполнен наверху пузырьками воздуха — это спрессовавшийся снег. И примерно до 1,4 тыс. м эти пузырьки приводят к сильному рассеиванию света. Затем эти пузыри схлопываются. В месте схлопывания структура льда образует каверну, которая тоже служит источником рассеивания. В антарктическом льду очень высокая прозрачность, хорошее поглощение, но он рассеивает, что очень портит информацию о событиях.
В этом смысле у льда есть минусы и преимущества. У воды тоже есть минусы — она в Байкале не такая уж прозрачная. Хотелось бы, конечно, чтобы никакие организмы там не водились, это нам мешает. Но что тут поделаешь? Мы там гости, а они — хозяева.

Григорий Владимирович Домогацкий. Фото Ольги Мерзляковой
— Григорий Владимирович, вам потребовалось 40 лет, чтобы создать установку и начать получать ценную информацию. Не обидно, что только сейчас появились какие-то результаты?
— С одной стороны, обидно. А с другой — ничего путного по-другому и не сделаешь. Как у теоретика у меня что-то получалось, доставляло удовольствие. Мы впервые зарегистрировали нейтрино в воде, получили хорошие результаты в задачах по монополю, по потокам мюонов. Потом американцы создали свою установку «Аманда» на Южном полюсе. Наш детектор с «Амандой» определяли весь круг результатов, достижений в области нейтринной астрофизики высоких энергий, который в то время был на Земле. Потом в Средиземном море появился небольшой детектор «Антарес». Эти три детектора в 1990-е гг. и первые десять лет этого века вели все исследования в мире по этой части. Пока нам и американцам не стало окончательно понятно, что детектор надо делать принципиально больше. Принципиально. Они развернулись чуть быстрее, чем мы, но мы это сделали примерно в одно время. Они начали строить детектор Ice Cube, мы — детектор Baikal—GVD, как его сейчас называют.
— Нынешний детектор создавался тоже у нас в стране?
— Да, у нас. Но из чего? Стеклянная сфера едет из Германии и Англии. Фотоумножитель приобретается в Японии. Вся электроника — из Тайваня, Китая, Германии, Англии. Из российского производства осталась культура кабелей, коммуникаций. Они играют в таких установках огромную роль.
— А как же новосибирские и нижегородские коллеги, которые вам создавали технику?
— Когда начали разворачивать Большой детектор, я связался с директором завода в Новосибирске. Он сказал: «Стекло вам придется покупать в Китае…» — и дальше начал перечислять. Я понял, что придется построить завод заново, мы уже ничего не можем. А ледорезное оборудование у нас свое.
— Какого размера сейчас достигает телескоп?
— Понятие размера в такой системе довольно условно. Даже понятие «эффективный объем», который работает при решении научной задачи, не вполне точно. Надо точно определять — для какой задачи. Если задача регистрации каскадных событий от нейтрино высоких энергий, то мы значительно перевалили за 0,5 км3. Где-то ближайшие две-три экспедиции — и мы подберемся к кубическому километру. Но это не догма, не выделенная цифра, просто некий масштаб, который определил Ice Cube. А там геометрия четкая. Тут же мы видим события внутри детектора и снаружи — у нас в этом смысле гораздо интереснее. У них тоже есть планы, уже есть принципиальное согласие высшего научного руководства, что дальше будет создание детектора объемом 8 км3. На создание детектора Ice Cube Конгресс США выделил тогда $300 млн.
— Вам до таких цифр финансирования далеко?
— У нас деньги вкладываются несоизмеримо эффективнее. У нас нет Антарктиды. Это очень дорогая логистика. Поэтому нам легче.
— Увеличивая объемы установок, ученые пытаются понять что-то важное. А что?
— Я думаю, что если бы во времена Тутанхамона рядовой египтянин задал жрецу вопрос, зачем тот смотрит на небо, то ему бы дали ясный ответ. Я такого не могу сказать. Человечество до сих пор получало все познания о Вселенной с помощью тех или иных форм электромагнитного излучения. Это и радио, и прямые гамма-кванты, обычный свет. Электромагнитное излучение выходит с поверхности объектов, и на пути к Земле оно может испытывать влияние магнитных полей и межзвездного мусора.
В последнее десятилетие на наших глазах происходит переход к многоканальной астрономии — когда появляется возможность изучать объект или явление с помощью разных форм астрономии. Это в том числе поиск нейтринного излучения. А в перспективе — еще и гравитационных волн.
Возникает новая астрономия. Знаете, приятно ощущать, что во многом это благодаря тому, что были умные учителя: М.А. Марков, Б.М. Понтекорво, Г.Т. Зацепин, А.Е. Чудаков. Люди, которые понимали в нейтринной физике. У М.А. Маркова было удивительное чувство предвидения. Он понимал логику развития науки. Нутром чувствовал. Понимал, куда движется наука, что будет актуально завтра-послезавтра. А Б.М. Понтекорво — человек, влюбленный в нейтрино, талантливейший экспериментатор. И все это вместе давало очень хороший импульс развития нейтринной физики у нас в стране.
Даже на фоне нынешнего времени эта область вполне достойно звучит в мире. Наши результаты публикуются в достаточно авторитетных научных зарубежных журналах.
— Что это значит — «пошли результаты»? О чем конкретно речь?
— Мы реально, вживую видим и умеем выделять нейтрино, пришедшие из дальнего космоса. Это серьезный результат.
— Но пока вы не знаете, откуда конкретно они пришли, и ваша задача — это узнать?
— Вместе с Ice Cube мы анализируем весь поток нейтрино и начинаем там искать внутреннюю логику: почему откуда-то идет больше? Вот пример: только что, совсем недавно, месяц назад, Ice Cube докладывал результаты своего анализа данных. И они определенно видят Млечный Путь в нейтрино. От эклиптики Галактики видно, что здесь расположены какие-то мощные источники. Результат пока не очень высокой достоверности, но вот такая тенденция. Сейчас идет анализ наших данных — будем смотреть, что и насколько они будут показывать. Лет через десять, уверен, это будет полная реальность.
— Слышала от астрофизиков, что мы не можем достучаться до «братьев по разуму» еще и потому, что пользуемся только радиосигналами. А теперь у нас появляется многоканальная астрономия — и, может быть, наконец, контакт состоится? Нейтрино может здесь помочь?
— Вопрос такой: какой ширины нужно создать пучок, от какой планеты, какой звезды, чтобы этот пучок дошел до Земли и чтобы тут был хоть как-то заметен сигнал? Если речь о нейтрино, думаю, что нет. Пока не могу себе такого представить.
— А какие преимущества может дать многоканальная астрономия?
— Без нее очень трудно куда-то продвигаться. Это обязательный шаг в развитии. Протоны, фотоны, нейтрино и другие частицы приносят информацию о совершенно разных процессах. И только когда вы все это соберете вместе, тогда начнете понимать, что за объект или область их излучает. Образно говоря, если у вас есть только пирамидон, то вы все не вылечите.
— Нейтрино претендует на роль вещества, составляющего темную материю. Что вы думаете по этому поводу?
— Думаю, вряд ли. Слишком оно маленькое и легкое.
— А что тогда? Вообще, что там с темной материей? Недавно была статья южнокорейского ученого, что ее, может быть, и нет.
— Есть. Она проявляется. Без этого нельзя объяснить очень многое. Но что она собой представляет, пока непонятно. Между прочим, это одна из очень актуальных задач нейтринной физики, потому что, по некоторым предположениям, массивные частицы могут собираться в центре Солнца, в центре Земли, и тогда, аннигилируя, они испускают нейтрино определенных энергий. Это одна из задач, которую решают нейтринные телескопы: поиск проявлений аннигиляции массивных частиц в направлении на Солнце и на центр Земли.
— Какие еще задачи нейтринной физики вам кажутся наиболее важными?
— Знаете, я подхожу к этому по-другому. Что значит «наиболее важными»? Важны те задачи, которые можно решить. Важно то, что ты можешь спросить у природы. Надо научиться ее спрашивать.
— Что же вы хотели бы спросить у природы?
— То, что мы сейчас делаем, — это вполне хорошая задача. А вообще, конечно, лично мне хотелось бы, чтобы мы когда-нибудь сумели хорошо измерять самые малые энергии, ниже 0,5 МэВ. Тогда мы сможем многое узнать о строении Земли. Эта задача вполне на горизонте. Если какое-то сообщество наберется сил этим заниматься, это может получиться. Был замечательный детектор Borexino в Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии. Получал очень хорошие результаты, хорошо двигался, сделал много полезного. Но там возникла проблема с движением «зеленых». Они этот эксперимент закрыли, у Borexino вылили весь сцинтиллятор. Создание детектора такого класса — очень тяжелое дело, хотя это было бы правильно.
— Иначе говоря, нейтрино может помочь в исследованиях не только дальнего космоса, но и своей собственной планеты, о которой мы тоже многого не знаем?
— Безусловно, а это задача не менее важная. Потихоньку этим начали заниматься на Баксане, но это дело не быстрое. Я уверен, что еще кто-то начнет.
— У Borexino и правда были экологические проблемы?
— Дело в том, что сцинтиллятор содержит вещество, в котором регистрируется события от нейтрино, а это горючее вещество типа керосина. И отсюда возникло это движение. Все это ерунда, конечно. Когда принимают ограничения, часто ограничивают не то, что надо.
— А на Байкале не возникают проблемы с природоохранными организациями?
— Изначально мы там появились после постановления «директивных органов», которое особо никто не обсуждал. Но и потом серьезных вопросов не было. Навредить мы, конечно, ничем не можем. Я объяснял населению, что это не опасно. Конечно, все было, в том числе собрания, где приходилось успокаивать людей. Постепенно все утихло. Увидели, что мы ведем себя прилично.
— А что это за история, как вы спасли нерпу?
— Это трогательная история. У нас был грузовой автомобиль ГАЗ-66, вездеход, я с водителем ехал по льду Байкала со 106-го километра в Листвянку. И видим какое-то непонятное оживление. Подъехали. Вороны клюют молодую нерпу, которая зачем-то вылезла из лунки и потеряла ее. Вороны почувствовали слабину и клюют. Все уже сильно окровавлено.
Что делать? Нам ее взять не во что. Ворон отогнали, быстро доехали до Листвянки, к лимнологам. А у них там стационар, аквариум для нерп. У них есть специальные сети. Притащили они эту нерпу, спасли. Вороны не успели ей серьезно навредить.
С тех пор она там жила, оказалась очень добродушной и артистичной, научилась делать всякие трюки. Потом директор Института экологической токсикологии Альберт Максимович Бейм попросил отдать нерпу им. Отдали. Там она тоже стала всеобщей любимицей, стали звать ее Наташка.
— Как приятно!
— Она все умела, из воды выпрыгивала, разные стойки делала. А дальше был неожиданный поворот в ее судьбе. Приехала делегация японцев, которым Наташка все продемонстрировала, они были очарованы и попросили подарить Наташку им. Подарили. Теперь она живет в Японии.
— Замечательная история! У меня есть ощущение, что вы тоже влюблены в нейтрино, как Б.М. Понтекорво. Это так?
— Наверное. Недаром же я председатель Научного совета РАН по нейтринной физике. Когда-то Бруно Максимович меня попросил туда войти. Так что вся жизнь связана с нейтрино.
— Что для вас нейтрино? Вы их как-то визуализируете? Может, что-то снится на эту тему?
— Снится часто, но не сами нейтрино, а какие-то их проявления. Вообще и без снов наша жизнь очень интересна. Я работал вместе с замечательным астрофизиком Дмитрием Константиновичем Надежиным. Он был сотрудником Института прикладной математики, у М.В. Келдыша, потом Института теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова (ИТЭФ). Ярчайший человек, очень талантливый, умер в ковидное время. Мы с ним в 1975 г. ввели такое понятие, как «нейтринный нуклеосинтез», — рассмотрели задачу, когда известно, что в происхождении химических элементов далеко не все изотопы можно объяснить. Есть такое понятие — обойденные изотопы, которые лежат вне всей цепочки нуклеосинтеза. И есть очень заметные вещи в области легких ядер — литий-6. Образовать его — целая проблема. Это бор-10 и фтор-19 — изотопы, происхождение которых вне нашего понимания.
Мы просмотрели такую вещь, как влияние нейтрино на химсостав оболочки, которую сбрасывает сверхновая звезда. Там, оказывается, мощный поток нейтрино, влияющий на состав этой оболочки. Знаете, из чего мы с вами состоим? Какая-то сверхновая взорвалась и выкинула вещество в пространство. Мы — результат взрыва сверхновой.
— Получается, что и нейтрино на нас каким-то образом повлияли? Хотя, казалось бы, они не взаимодействуют.
— Литий на 93% состоит из лития-7, а дальше — литий-6. Химсостав этих легких элементов без нейтрино был бы вообще совершенно другим.
— Ни Земли, ни Солнца, ни нас с вами не было бы, если бы не нейтрино. Выходит, нейтрино не такие уж слабые, как нам кажется?
— Да, нейтрино работают, они чрезвычайно важны. А наша задача — понять про них как можно больше, чтобы познать наш мир и научиться жить в нем лучше, чем мы живем сейчас.